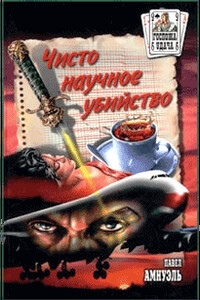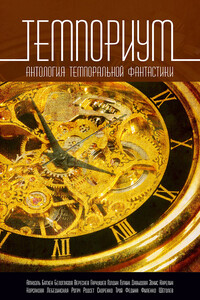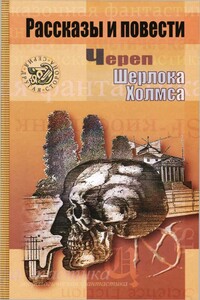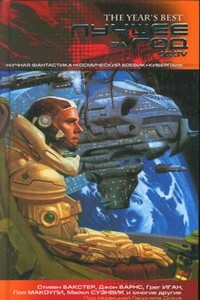Приговорённые к высшей мере | страница 8
Девять тридцать две на часах.
Если я опоздаю, и Патриот расправится со мной здесь и сейчас, что случится с той частью меня, что зовется — Лумер? Он тоже перестанет быть? Или только потеряет свою интуицию, свое подсознание, потеряет кураж, и его спишут в расход? Он — в конце концов — попадется. Неужели только собственной смертью я могу заставить его не убивать?
Что же в таком случае — жизнь?
Девять тридцать три.
Все. Я иду, Патриот. Я нащупал путь. Если останусь жив, я вычищу эти авгиевы конюшни в самом себе.
Девять тридцать четыре.
С Богом.
Погружение
Сквозь подсознание Лумера я пронесся, держась обеими руками за яркий утолщающийся шпур, будто съехал с вершины гладкого столба, так что обожгло ладони.
Я скользнул глубже но кромке айсберга и понял мгновенно, будто знал это всегда, а теперь вспомнил: у человека нет личного подсознания. Подсознания всех людей на планете — всех без исключения, от новорожденного эскимоса до старого маразматика на Гаваях — есть единая, работающая в режиме разделенного времени вычислительная машина, и в терминах обычного трехмерия можно сказать, что мозги всех людей на планете объединены общим информационным полем, и все проблемы всех людей решаются в этом поле сообща, как решаются сразу множество задач одним-единственным компьютером. Отсюда — озарения, пришедшие ниоткуда, странные, будто не свои, воспоминания, которые изредка возникают у каждого, и все это потому, что Мир многомерен, а сознание плоско.
Был ли это один из законов Мира? Я не видел, не осознавал, не понимал, но, пролетая куда-то, — знал.
Шнур расплылся… Растекся…
Комната была маленькая, и я видел ее отовсюду, со всех стен, с потолка и пола, и из любой точки изнутри. Как мне это удавалось? Я мог бы сказать, что стал массивным дубовым шкафом с резными дверцами, открывавшимися с пронзительным скрипом. Внутри шкаф был полон поношенных рубашек, потертых брюк, линялых галстуков. Но все же я не был шкафом, а скорее воздухом или иконой в красном углу (между окладом и стеной шевелили усиками огромные рыжие тараканы), или узкой металлической кроватью с подушками горкой, будто взбитыми сливками на плоском белоснежном мороженом. И еще я был столом, основательным, прочным, по углам проеденным червями. Все это был я, а мужчина лет сорока, кряжистый, невысокий, с большой лысой головой и лицом страстотерпца, на котором мрачно горели голубые, со стальным отливом, глаза, в мое «я» не вмещался. Он ходил из угла в угол, он был вне меня, и гаснущий огонь шнура — путь к Патриоту — за который я не мог больше уцепиться, терялся именно в нем, будто шпага в груди убитого.