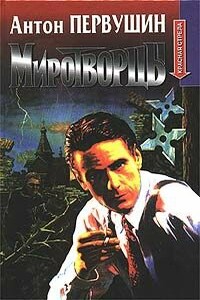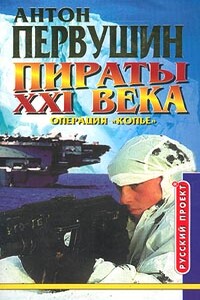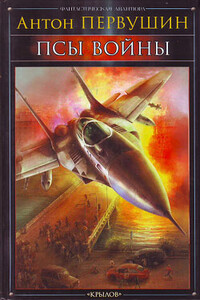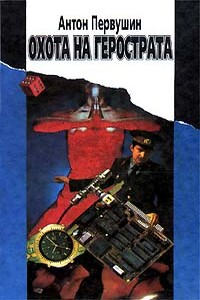Космическая мифология | страница 34
Тут остается только добавить, что теория полой Луны была проверена математическим моделированием и изучением данных сейсмометров, установленных на поверхности ближайшего небесного тела американскими астронавтами. Увы, никаких значительных полостей внутри естественного спутника не обнаружено.
Зачем мне понадобился столь детальный экскурс в историю развития идеи обитаемой Луны — от ранних предположений астрономов до рептилоидной конспирологии? Дело в том, что в ней ярко отразилось, как волнующая гипотеза снижает критичность анализа даже среди ученых и как дилетантские рассуждения дискредитируют интересную научную тему. Взять хотя бы харьковского астронома Алексея Архипова (я упоминал его выше), который стал, по-видимому, крупнейшим советским специалистом в области LTP: он опубликовал не только десятки статей, посвященных феномену, но и выпустил обширный труд «Селениты»>13. Начинал Архипов в качестве сторонника простейших объяснений LTP как ошибок наблюдения или природных процессов, однако в начале 1990-х годов так уверовал в присутствие пришельцев на ближайшем небесном теле, что основал «лунную археологию», которая быстро слилась с уфологией и палеокосмонавтикой.
В свое время Иосиф Шкловский, ошеломленный насаждением псевдонаучных теорий, которые выросли из некоторых его «хулиганских» гипотез, призвал околонаучную общественность быть осторожнее с выводами. Он даже апеллировал в своих книгах к малоизвестной китайской пословице: «Если ты очень ждешь друга — не принимай стук своего сердца за топот копыт его коня…», что в переводе на русский язык означало: не следует бежать впереди научного паровоза, рассматривая любую аномалию как свидетельство присутствия или деятельности иного разума, ведь вполне возможно, что в дальнейшем ей найдут прозаическое объяснение.
Тут уместно вспомнить о «бритве Оккама» — методологическом принципе, авторство которого приписывают английскому монаху-философу Уильяму из Оккама, жившему на рубеже XIII и XIV веков. Расследование, правда, показало, что впервые в современном виде принцип сформулировал немецкий ученый Иоганн Клауберг в сочинении «Логика. Старая и новая» (Logica vetus et nova, 1654), а «бритвой Оккама» его прозвал профессор Эдинбургского университета Уильям Гамильтон в книге «Беседы о философии и литературе» (Discussions in Philosophy, Literature and Education, 1853). Формулировка принципа звучит так: «Не следует множить сущности без необходимости» (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Ученые XX века интерпретировали его как общее правило, когда при наличии нескольких объяснений какого-либо явления следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них. В 1971 году Шкловский модифицировал «бритву Оккама» применительно к астрономическим наблюдениям, сформулировав презумпцию естественности: любое явление следует считать искусственным тогда и только тогда, когда будут исчерпаны все без исключения естественные объяснения. Конечно, «принцип Шкловского» уязвим для критики, что понимал и сам его автор, но он не определяет ограничения в поисках истины, а рекомендует, как и «бритва Оккама», порядок рассмотрения гипотез: от более простых, связывающих явление с ошибками наблюдателей или природными процессами, к более сложным, которые требуют пересмотра наших представлений о Вселенной.