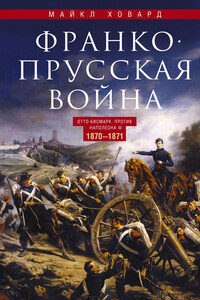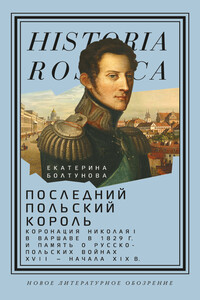1940-Счастливый год Сталина | страница 7
Ргт 4 Огонек 30 августа 1940 № 24. 1-я стр обложки Молдавская крестьянка
и прямым членам бесклассового общества»[14]. И наконец, «в отличие от всякого другого мира, наш закон [закон «советского счастья», по мысли Макаренко] общий, закон государственный есть, собственно гоьоря, закон о счастье»[15] Таким обраоом, счастье, как его надлежало воспринимать всем, кого это касалось, воплощалось в исторически небывалом уровне развития советского общества.
Сталинская эвдемония (блаженство) как законодателя заключалась, однако, не в благосостоянии или жизненных благах, доступных благодаря советскому строю только советским людям. Его личное понимание счастья скорее определялось тем, что вкладывал в понятие счастья Карл Маркс, а именно: это не что иное, как борьба, — и со- ответс твенно уступки, компромиссы отступления не говоря уже о капитуляции, рассматриваюсь как несчастье.
Правда, в том же 1940 г. артикулировалось культурническое не- со1ласие с этой трактовкой в пределах общественного ан гикапигали- стического дискурса, в котором участвовал и большевизм: «Счастье было возможно, — писал в своем дневнике в феврате 1940 г французский друг Советского Союза — в возрасте 25-33 лет я часто бывал счастлив, в моем окружении было множество счастливых людей, и это не было каким-то лихорадочным нездоровым счастьем. Они были действительно полны спокойного счастья... Мы не хотели ни разрушать, ни предаваться буйным неистовым страстям. Мы хотели честно и терпеливо постигать мир, открывать его и искать в нем место для себя... Те из нас, кто хотел преобразовывать мир, становились, к примеру, коммунистами, становились сознательно, взвесив все за и против»[16].
Не следовало ли нам в таком случае в принципе пересмотреть свое понимание счастья, стремясь в познавательных целях разобраться в счастье, вероятно, самого счастливого человека того 1940 года?
Не мог ли Он гипотетически солидаризоваться с определением, которое было распространено в конце XIX столетия в любимой стране русских революционных эмигрантов — Швейцарии, которое гласило: «Первым и непреложным условием счастья является твердая вера в нравственный миропорядок. Без него, то есть если мир будет управляться случаем или неумолимым естественным законом... о счастье каждого отдельного человека не может быть речи»[17].