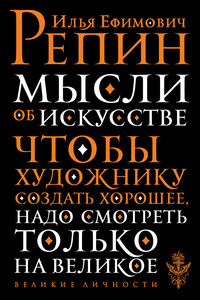Далекое близкое | страница 75
Сколько сказок кружило у нас между живописцами о великих художниках! Центром всех чудес в искусстве был «Брулов» (так звали Брюллова). Про него говорили, что он писал так «раптурно», что живопись его была в то же время выпукла, как скульптура. И все анекдоты и легенды, с незапамятных времен создавшиеся про живописцев, связывали с «Бруловым».
Весь чугуевский живописный мирок, узнав, что Персанова увезли в Питер, ждал от него больших чудес, и я был свидетелем общего большого и горького недоумения: прошло около пяти лет, а о нашем чугуевском Рафаэле никакого слуха не было. Я даже однажды написал ему восторженное письмо с разными запросами — ответа не было.
Только в первое время своего знакомства с Питером и Академией художеств в письме к Якову Логвинову он высказывал свое удивление по поводу академических рисунков: «рисуют, как печать; рисуй, Яша, это здесь самое главное, я совсем рисовать не умею…» Под рисунком разумелась та удивительная тушовка с конопаткой пунктиром (для чего рисунки брались на дом), которой в особенности отличались рисунки Чивилева, Заболотского, Богдана Венига и других>[82]. Персанову они казались недосягаемым совершенством… Он так и не достиг его.
Когда я попал в Академию художеств, я стал расспрашивать у старых натурщиков, не помнят ли они Персанова.
«…А-а-а, так ведь он сошел с ума, — ответил мне быстро и уверенно умный Тарас, — как же, как же! После уж, бедняга, все в коридорах у сторожей прятался, я его встречал, оборванный и голодный, бедняга, платить ему было нечем. Да где уж там платить?! У меня есть несколько его этюдов, за чистый холст он их отдавал».
Разумеется, я не успокоился, пока Тарас не показал мне его этюдов, и был горько разочарован. В фоне, за натурщиком, еще можно было узнать Персанова: те же интересные, фантастичные переливы глубоко лиловых с оранжевыми темных облаков… то, что так было очаровательно в бирюзовом свете портрета Якова Логвинова, и эти светлорозовые с темнолиловыми страшные, но красивые тучи, путавшиеся уже между людьми, раздевающими Христа на Голгофе… Так он фантастично иллюминовал картину Штейбена с гравюры еще в своих нечитайловских светелках с окнами на светлый выгон и бесконечные дали.
Когда я ездил домой из Питера в 1867 году, мне сказали, что несчастный сумасшедший Персанов пришел пешком из Петербурга в Чугуев, прожил здесь несколько времени у Чурсина и потом пошел дальше в Балаклею, к матери.
Чурсина я знал. Он происходил из писарей, был образованный человек и имел очень хороший собственный дом на Базарной площади.