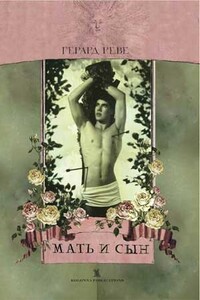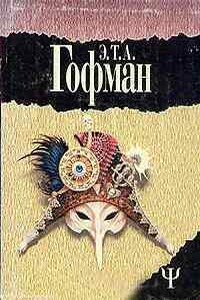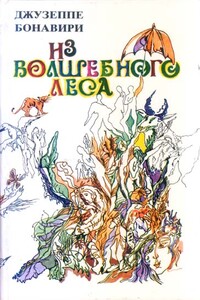Сестра Моника | страница 60
Природа рассеивается во всех своих бесконечных созданиях, устремляется от единства к простоте и соединяется лишь генетически в своем содержании; человек же соединяется и связывается физически и морально в однородности и усложненности своего опыта и знаний. Хотя это не значит, что не существует простых людей, характеров и существ, обладающих свойством смешиваться с другими, оставаясь при этом самостоятельными, могущих отдаваться другим всецело, не утрачивая при этом оригинальности. Эта способность, которая есть проводник на пути от духа к людям, и какою, в частном и общем, не обладает ни неорганическая, ни животная природа... может быть привита людям с помощью искусства.
Это замечательное искусство, посредством которого человек, словно Бог, сможет управлять природой и самовольно разрушать ее крепкие преграды, посредством которого он сможет связывать воедино различное, должно нас учить тому: „Чем с помощью человеческого гения мы можем быть, коли того захотим“[204] пока остальным созданиям требуется сперва всемогущество создателя для того, чтобы себя преодолеть.
Но напрасно мы протягиваем руки людям; люди действуют без рук; нужда пожирает одну половину; порок жадно заглатывает другую половину этих двуногих существ на четырех ногах; и нам ничего не остается, как называть их обезьяньей породой. Хотя человек и возвысился над животными за счет своего разума, но нрав и свою самостоятельность он все еще должен искать среди них...
И поэтому, дорогая Люцилия! и мы стоим на том месте, на котором нас охотно видят мужчины. Доставим же им эту маленькую радость!.. Их власть — на земле, мы же облетаем небесные пространства, а на земле вместо нас остается, несмотря на воодушевление, инертное существо...
Поди сюда, Фредегунда, разденься и начни очищать наши тела, — закончила свою тираду Аврелия, и я повиновался. Вооруженный благоухающим мылом и полотенцами я прыгнул к ним в чуть теплую ванну, подготовленную по рецепту Хуфеланда[205], и так рьяно принялся тереть роскошный низ Аврелии, особенно ее выпуклости и ложбинки, что не успел я и моргнуть, как она открыла розовые уста и велела мне попытать счастья с Люцилией. Я повиновался, Аврелия поцеловала Люцилию в грудь и приказала той лечь на спину и пошире раздвинуть ноги. Люцилия легла, а я принялся тереть ее между двумя самыми прекрасными точками жизни, между девственно-тугой розой и прелестнейшим отверстием выпуклого зада, с таким решительным благоразумием, с такой бережностью и знанием дела, что нежная невеста, когда я завершил работу, отблагодарила меня поцелуем. Во время этих искусных манипуляций и месмеристских растирок