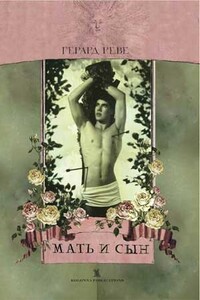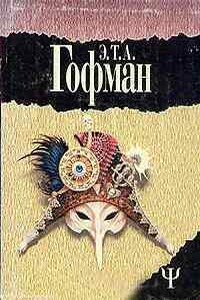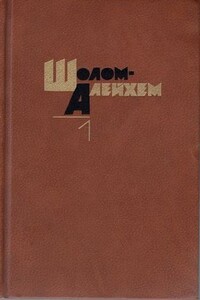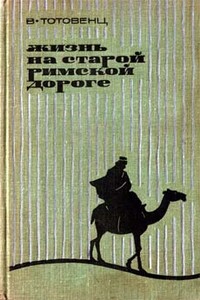Сестра Моника | страница 12
Вообще, лейтенант обладал такими манерами, таким savoir faire, каких не было ни у кого.
Однажды я вернулась с прогулки чуть раньше обычного; я хотела было открыть двери в комнату, где находились моя мать с Бовуа, как до меня донесся сначала какой-то странный шум, а потом я расслышала слова матери: «Je vous prie instamment, Beavois! Laissez moi... oh... oh!» — «Ma Diesse!..» — «Oh! Laissez moi faire... laissez moi[47]» ... Больше я ничего не слышала; однако видела, что происходит, через замочную скважину. И что же я видела?! Мать лежала на полу, Бовуа задрал ей исподнее и юбки, поднял ее левую ногу, его штаны были спущены, низ совершенно оголен, а член торчал, словно шлагбаум на берлинских воротах.
От увиденного мне стало как-то по-особенному хорошо, я едва смогла удержаться на ногах; я разделась и стала внимательно наблюдать за происходящим, двигая свой палец в такт члену Бовуа, входившему и выходившему из моей матери так интенсивно и глубоко, что и я, пожалуй, испытала не меньше удовольствия, нежели моя мать.
Мать моя была натурой в высшей степени сладострастной, чувства ее постоянно нуждались в выходе; отец же, напротив, редко соблазнялся одними женскими прелестями, и если он уж очень хотел удовлетворить свою похоть с моей матерью, то для возбуждения ему требовалось нечто особенное.
Поэтому сразу же после свадьбы он открыл моей матери пару сокровеннейших сердечных тайн, обещавших ей радостное будущее; она же, как мне кажется, намеревалась пожертвовать эти тайны материнским инстинктам, а не обернуть их себе во благо. Однако после двух лет замужней жизни Луиза поняла, что кроме меня от супружеской связи ей не стоит больше ждать никаких плодов, и твердо решила, что коли она и так чуть ли не вдова, то может без всякого стеснения принять к сведению кое-какое данное ей позволение.
Позволение это в определенных выражениях дал ей мой отец.
— Я заполучил тебя весьма своеобразно, — сказал он, — значит и потерять тебя я могу лишь каким-нибудь причудливым образом. Я знаю — я понял, что твой темперамент, жаждущий плотских утех, пренебрегает границами благопристойности, ты намного охотней готова служить философии чувственности, нежели любви к нравственности.
Я не желаю сейчас спорить с тобой о дозволенности или недозволенности чувственного удовлетворения, в еще меньшей степени я намерен прекословить природе, которая с одинаковой силой проявляет себя и в зной, и в студеную пору; я не хочу ни тебе, ни ей платить той же монетой.