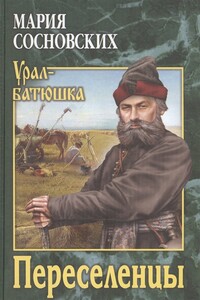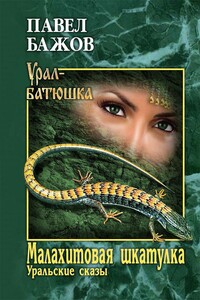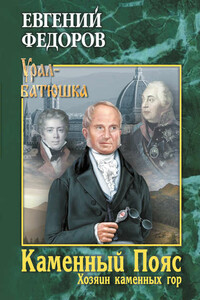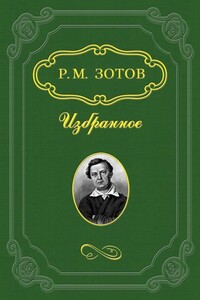Екатеринбург, восемнадцатый | страница 68
Я бы не стал связывать себя со всем этим кощунством, если бы не видел в нем какой-то нечеловеческой злобы против вымышленных ими контрреволюционеров, то есть против меня, против моих товарищей, полегших под Сарыкамышем, в Персии — да где угодно, полегших, защищая наше Отечество. Я ругал себя. Я говорил себе, черт-де дернул тебя подчиниться корпусному комитету, по сути, настоящим контрреволюционерам, взявшимся уничтожать Россию, черт-де дернул тебя не уйти к Василию Даниловичу Гамалию в его Георгиевскую сотню, не уйти к партизану Бичерахову, где меня не достал бы никакой комитет. А коли дернул, то и тащись за всей этой комедией с гробами, за всем этим революционным бредом, настолько революционным, что посчиталось победившей революцией держать позади своих сынов два грузовика с пулеметами.
Иззябшийся и голодный, я шел домой. Раньше служба была для меня радостью, она была для меня службой. Раньше я ее любил. А теперь я шел к себе домой и спрашивал себя: «Что? За что? Что это? За что мне, подполковнику русской армии?» — и я не хотел знать, что нет ее, русской армии, что нет России, а есть только Паши Хохряковы, есть только Мойши или как их там, Яши-Янкели Юровские. От их существования, от их службы я не мог уже любить службы, я не мог уже… А что уже, что я не мог, было невозможно сказать.
А дома меня встретила своя контрреволюция. Дома жильцы мои Ворзоновские съезжали. Причиной тому стал выстрел Миши.
— В таком щекотном положении, когда война уже пошла по комнатам, мы быть не желаем! Вы вот тут стреляете, вы вот приказы пишете на гонимых вами же простых несчастных обывателей, — а вот посмотрите таки, кого надо выселять! — дал мне газету известий Ворзоновский.
Я удержался от вопроса, приготовлен ли донос на какого-то их собрата для Миши. Я взял газету и отдал Ивану Филипповичу.
— Айда, айда с Богом! — молился он по поводу Ворзоновских и настороженно смотрел, не взяли ли они чего-либо из нашего имущества, хотя как они могли что-то взять. Они были обыкновенными, как сказал сам Ворзоновский, обывателями. Если их что и заставило смошенничать, так та же революция, обыкновенная безысходность и обыкновенный инстинкт выжить. Вероятно, это понял и Селянин, отчего заставил их только оплатить расходы и штраф, а не отдал их Паше Хохрякову.
Анна Ивановна была в каморке Ивана Филипповича. Она было кинулась развязать мне мерзлый башлык, но смутилась своего порыва. Я же вспомнил брата Сашу после Маньчжурии — так он являлся домой, а матушка и нянюшка выходили его встречать, развязать башлык, повесить шинель, выходили и ждали, когда он снимет портупею, расстегнется, а он целовал им руки и, бывало, плакал от стыда за бездарное, по его мнению, возвращение с войны. Я в это время обычно стоял в глубине гостиной комнаты и видел его героем. Если он меня замечал, то говорил кем-то злобным придуманную про них, воевавших в Маньчжурии, фразу. «Что, Бориска? — говорил он. — Проиграли макакам коекаки!» И я был готов того, кто эту фразу придумал, самого отправить в Маньчжурию, самого заставить понести все тяготы войны и не пускать его домой, пока он не взвоет и не придумает что-то подлинно достойное нашей армии.