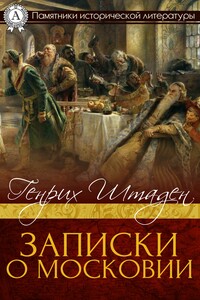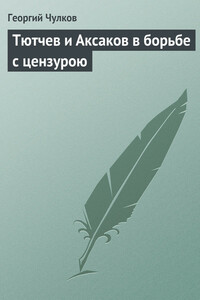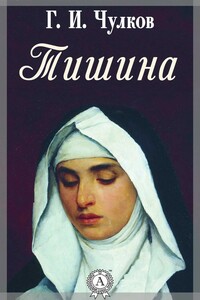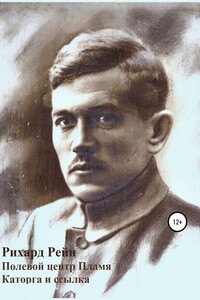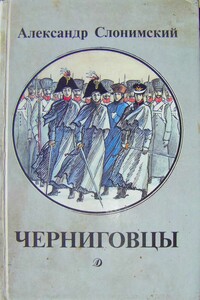О мистическом анархизме | страница 18
Достоевский наоборот начал с «бедных людей», с их маленьких земных страданий, человеческих, «слишком человеческих» и пришел к великой, неутолимой жажде «нового неба и новой земли». Однажды в кружке Петрашевского кто-то спросил Достоевского: «ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?» — Достоевский воскликнул:-«так хотя бы через восстание!» — Но прошли года, и Достоевский — в ужасе перед «бесами» революции, — неуверенно выкрикивает в «Дневнике писателя» ненужные слова о «православии, самодержавии и народности».
Однако, несмотря на реакционные утверждения в «Дневнике Писателя», в Достоевском жил анархический дух. В «поэме о Великом Инквизиторе» раскрывается наиболее полнозаветная мистическо-анархическая идея Достоевского «о неприятии мира», которая ныне снова волнует наших искателей. (См. статью Вяч. Иванова «Кризис индивидуализма» в «Вопросах жизни»).
Если Бакунин не принимал Бога, пользуясь формулой «Бог есть раб человека», то Достоевский не принимал «Божьего мира».
«Итак, принимаю Бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его…» — говорит Иван Карамазов:-«Я не Бога не принимаю», — поясняет он далее:-«я мира Им созданного, мира то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». И еще далее;
«Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю». «Это бунт», — тихо и потупившись отвечает Алеша на мятежные речи брата.
Не возражая прямо на это обвинение в анархизме, Иван Карамазов дает косвенный ответ: «Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя:-отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!»
Казалось бы, что такой «бунт» в плане религиозном должен неминуемо повлечь за собой бунт в плане мира эмпирического, в плане социальном; казалось бы, что отрицание власти мистической предполагает отрицание всякой власти вообще, всякой государственности: но Достоевский не успел раскрыть для себя этой необходимой связи.
А Бакунин, яркий представитель русского революционного бунтарства, враг всякой власти, всякой государственности, почему-то перестает быть последовательным, когда перед ним жизнь ставит последнюю проблему «о власти над человеком эмпирического мира».