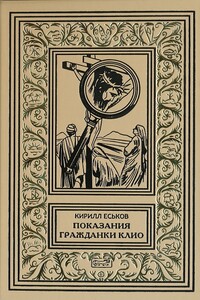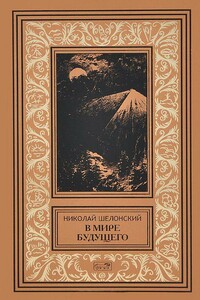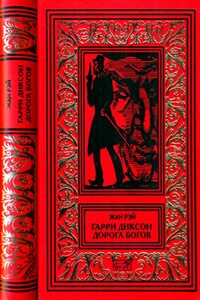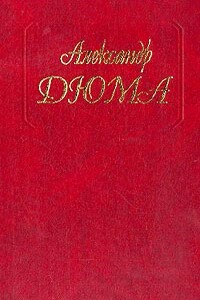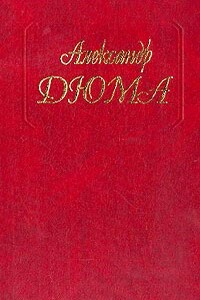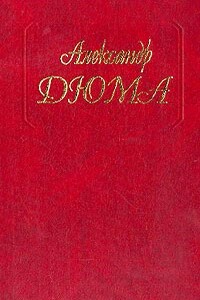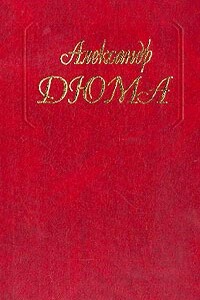Корабль палачей | страница 115
Соседи знали только то, что он никого не принимал, никого сам не посещал и жил очень бедно. При этом он не влезал в долги и никому не причинял неприятностей. Он оплачивал свои налоги в коммунальную кассу столь же пунктуально, как хороший банк. Никто не мог сказать, сколько ему лет, даже коммунальный секретарь, потому что немногие удостоверяющие его личность бумаги не содержали сведения о дате его рождения, дате, о которой, впрочем, власти никогда не считали необходимым поинтересоваться.
Одни были уверены, что он далеко перевалил за семидесятилетний рубеж, другие считали его гораздо более молодым, но рано состарившимся. Постепенно горожане привыкли к его присутствию, к его бедному облику, к ветхости его особняка. И когда общественность начала обсуждать вопрос о его психическом здоровье, а самые грубые даже стали называть его сумасшедшим, через некоторое время о нем оказалось сказанным все, что только можно было сказать, и разговоры о графе прекратились сами собой.
Однажды тихим июльским вечером граф сидел в единственной пригодной для жилья комнате своего архитектурного чуда, заканчивая скромный ужин, состоявший из ломтика хлеба без масла и кусочка высохшего сыра.
Запив еду глотком воды и набив табаком почерневшую трубку, он устроился перед окном, выходившим в сад, из которого можно было увидеть виртуозную пляску мошкары и дикие виражи ласточек.
Он оставался у окна до наступления ночи, когда летучие мыши сменили птиц.
Когда в трубке сгорела последняя крошка табака, граф встал и, после некоторого колебания, зажег свечку за четыре су. Потом он открыл дверцу углового шкафа и достал письменный прибор, давно вышедший из моды, но способный вызвать зависть у собирателя древностей.
Шкафчик был заполнен пыльными, пожелтевшими бумагами, в которых граф долго копался. В конце концов он обнаружил то, что искал: дагерротип с изображением дамы, одетой по моде 1840 года.
Некоторое время он с волнением рассматривал фотографию; в неверном свете свечи он с трудом разобрал тонкую строчку выцветшей надписи.
«Аделаида Матильда Мария-Антуанетта де Вестенроде, урожденная Поре де Блоссевиль», — прочитал он вполголоса.
— Моя дорогая бабушка, — с почтением произнес он. Похоже, он привык разговаривать с самим собой, ведь в длинных монологах такого одинокого человека, как он, нет ничего необычного.
— Отец часто рассказывал мне о том, как семья Блоссевилей попала во Фландрию. Эти французские аристократы были убежденными роялистами. На протяжении ста дней после возвращения Наполеона с острова Эльба они, не колеблясь, последовали за Луи XVIII в Гент.