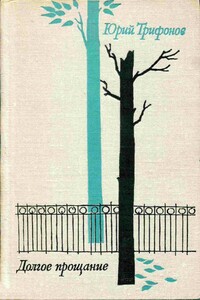Дом на набережной | страница 51
– А я почем знаю… Говорится так… – проворчала Васена.
Соня, побледнев сильнее обычного, обняла старуху:
– Няня, милая, зачем ты так? Ведь ты добрая, я же знаю…
А в конце января Соня, взволнованная, сказала Глебову, что случилась беда: Юлия Михайловна неожиданно поехала с Аникеевым на дачу забрать какие-то вещи и обнаружила некоторые несомненные улики, оставленные ими по рассеянности или халатности – торопились на электричку. И что же? Мать, хотя и ругает отца за близорукость и простодушие, сама еще более простодушна и имеет привычку отталкивать от себя все огорчительное, делает это бессознательно, этакий домашний страус, и вот какой вывод она сделала: «Соня, я должна сообщить тебе неприятную вещь. На нашей даче ночевали чужие люди. Они ничего не взяли, не украли, просто пришли, чтоб ночевать». – «Что ты говоришь!» – испугалась Соня. «Да, это, к сожалению, так. Есть несимпатичные доказательства. Отцу говорить я не буду, чтоб не огорчать зря. Ведь теперь уже ничем не поможешь».
Глебов, подумав, сказал: а если Юлия Михайловна все прекрасным образом сообразила и так иносказательно дает это понять? Ему не привиделось тут беды. Они вовсе не обязаны так уж свято хранить тайну. Ведь решили стать мужем и женой, это нерушимо, вопрос лишь времени – сейчас, через полгода, через год, какая разница?
И он думал так искренно, потому что казалось – твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог пробыть без нее дня. Теперь, когда прошло столько лет с той зимы, можно размыслить спокойно: что это было? Истинная любовь, созревавшая естественно и долго, или же молодое телесное беснование, которое обрушилось внезапно, как ангина? Было, пожалуй, второе. Слепое, бессмысленное, безоглядное и так не похожее на него, насколько он знал себя. Все дело заключалось в том, что и она оказалась совсем не похожей на ту, к какой он привык и с какой давно, годами смирился. Ее молчаливость, стеснительность, анемичность – все это было в прошлой, далекой жизни. И только ее доброта и покорность остались с ней новой.
Я помню, как он меня мучил и как я, однако, любил его. Он звонил утром по телефону – отец и мать знали, что звонит он, и старались не снимать трубку, потому что я сердился, когда они это делали, – и я мчался сломя голову из любого места, где в ту секунду находился: из кухни, где доедал клейкую и в отвратительных комьях манную кашу, из ванной и даже из того места, откуда, услышав сквозь дверь звонок, вылетал с незастегнутыми штанами. «Да! – кричал я. – Это кто говорит?» Мне хотелось услышать его имя. Он не называл себя, а всегда придумывал что-нибудь замечательно остроумное. «Сэр, – говорил он, – я жду вас ровно в восемь пятнадцать под часами в среднем дворе, и извольте быть при шпаге. Я заколю вас, как зайца… Из вас выйдет превосходное жаркое, сэр!» – «А из вас, – кричал я, задыхаясь от счастливого хохота, – из вас, сэр, выйдет очень хорошая пожарская котлета! Вот именно, сэр! Такая зажаристая, в подскребочках, вкусненькая котлеточка, сэр!»