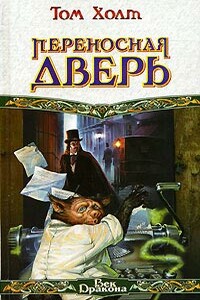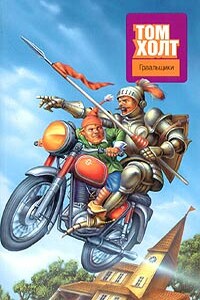Козлопеснь | страница 6
Но скоро я забросил это дело; нескончаемые потоки многосложных слов и невнятных метафор, которыми отличается высокий трагический стиль, казались мне одновременно слишком трудными и слишком нелепыми. Едва я увидел первую в своей жизни комедию — она произвела на меня такое впечатление, что я даже не могу припомнить, кто ее написал и о чем она была вообще — то сразу решил сочинять только комедии; и за одним-единственным исключением, о котором поведаю вам в свое время, за всю жизнь этой клятвы не нарушил. Комический стиль, в конце концов, основательно покоится на простонародной речи, так что величайшим комплиментом, который можно сделать комедиографу, является признание в том, что вы даже не замечали, что его персонажи говорят стихами. В сущности, я утверждаю, что комедии писать гораздо труднее, чем трагедии (и никто, конечно же, мне не верит), ибо у трагедий есть собственный язык, специально созданный для сочинения пьес, в то время как простонародный говор никогда не предназначался для переложения ямбической строкой и разбиения цезурами. К счастью, с этим талантом я родился, и моя мать говорила, что я изъяснялся стихами едва ли не с колыбели. В ее устах это вовсе не было комплиментом; она вышло из семьи политиков невысокого полета и с детства испытывала отвращение к сатирикам.
Итак, начиная с девяти лет я декламировал ребяческие парабасы и стихомифии козам и колючим кустам. В те дни я еще не владел искусством письма на восковых табличках или папирусе, а посему носил все свои строки в голове. Я по-прежнему так делаю и записываю пьесу только после того, как она закончена. В конце концов, актеры должны заучивать свои роли, и если автор не способен запомнить собственное сочинение, то как он может требовать этого от них?
К одинадцати годам я начал сочинять стихи для хора — занятие, всегда казавшееся мне делом более простым, чем ямбические диалоги, и вскоре закончил свою первую комедию, которой гордился до нелепости. Она называлась «Козлы» в честь первой своей аудитории и удостоилась первого приза на Всегиметском фестивале, который вручил старый белый козел, избранный мной председателем жюри из двенадцати судей. Поскольку моя пьеса была единственным номинантом того года, я не думаю, что у них был большой выбор. Сразу после этого главный судья весьма чувствительно боднул меня, когда я попытался заплести его челку в косу, преподав ранний и бесценный урок о непостоянстве публики.