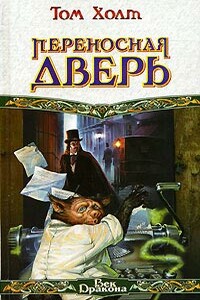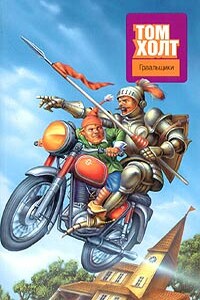Козлопеснь | страница 31
Помните, я упоминал одного маленького стратега, написавшего невероятно скучную и напыщенную историю войны, того самого, который думал, что перенес чуму? Ну так вот, не так давно я наткнулся на копию первой части его книги; я купил немного сыра и продавец воспользовался бессмертным трудом, чтобы завернуть в него головку — лишнее доказательство верности эстетических суждений аттических сыроторговцев.
Прежде чем бросить свиток в огонь, я просмотрел его и к своему изумлению обнаружил, что маленький военачальник включил в него речь Перикла, произнесенную в тот самый день. На самом деле он превратил ее бог знает во что, решив, что это самое удобное место для всех тех мыслей, которые Перикл произнес бы, будь он вполовину так умен, как маленький полководец; в итоге его речь ничем не напоминала ту, которую по моим воспоминаниям произнес сам Перикл; и я полагаю, что я прав, а он нет, поскольку это я на самом деле стоял там в первом ряду и впитывал слова с величайшим вниманием — по причинам, указанным выше. Но с другой стороны, моя память уже не та, что раньше. Тем не менее мне следует записать кое-что из что того, что я запомнил, просто чтобы избежать пропусков; тогда читатель, тоже присутствовавший при этом, сможет либо подтвердить мою правоту, либо рассказать всем своим друзьям, что Эвполид из Паллены — глупый старый осел, что вполне может оказаться правдой.
Я помню, что мы все отправились на общественное кладбище, которое лежало за стенами Города, и что это был исключительно жаркий для этого времени года день. На мне были мои самые лучшие одежды, волосы щедро умащены пахнущим подмышками маслом, и чувствовал я себя крайне некомфортно — мозги, казалось, поджаривались на этом масле — а вся церемония ничем не напоминала похороны. С одной стороны, в процессии было полным-полно женщин, завывающих, с расцарапанными до крови лицами, как и положено на похоронах; с другой стороны, присутствующие мужчины, казалось, рассматривают все происходящее, как своего рода гулянку, поскольку многие из них имели при себе фляги вина и кувшины с оливками и фигами; они болтали друг с другом, как на ярмарке. У края толпы сновали колбасники, при одном виде которых я ощущал голод (я любил колбаски), но никаких излишеств, конечно, позволить себе не мог, ибо предположительно скорбел. Дело обстояло так, что я не чувствовал особенной скорби, поскольку не мог увязать всю эту суету со смертью отца, и сама мысль о том, что его тело трясется в одной из больших кипарисовых долбенок, которые везли на телегах, казалась совершенно невероятной. Тем не менее, думаю, мне вполне бы удалось изобразить торжественность, если бы не мухи. Вонючее вещество на моих волосах привлекло, казалось, всех насекомых Греции; я отказываюсь верить, что кто-нибудь вообще способен выглядеть серьезно и хранить достоинство в самом центре густой мушиной тучи. Я старался изо всех сил, но в конце концов сдался и принялся разгонять их с удвоенной энергией.