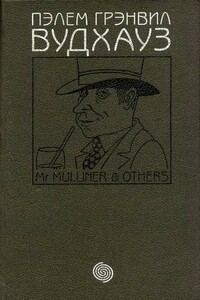Новеллы и повести | страница 84
После нескольких рюмок капитан стал еще приветливей. Исчезли его сдержанность и светская чопорность, он разговаривал со мной как человек, много повидавший на своем веку, с юношей, которому он годился в отцы, правда не позволяя себе даже намека на фамильярность. И постепенно я начал понимать, почему свечеховское «высшее общество» относилось к нему неприязненно. Видно, дело было не только в его бедности: какой-то озорной бес сидел в нем. Меня это не пугало, а напротив, еще больше притягивало к нему. Я никогда не любил святош и праведников, ни молодых, ни старых — прежде чем вознестись на небо, они успевают достаточно надоесть нам на земле.
Разговор все еще вертелся вокруг Парижа. Старик пустился в воспоминания, но теперь, описав душу столицы мира, он как бы вышел на ее улицы. И тут начались веселые истории, какие обычно можно услышать в молодой компании за бутылкой вина. Капитан словно помолодел, и думаю, если бы он, приодевшись, появился вдруг на берегах Сены, тамошние дамы и сейчас наверняка предпочли бы его многим юным кавалерам.
Атмосфера сделалась совсем непринужденной. Щекотливые места своих рассказов он пересыпал шутками и анекдотами. Он вставлял в разговор слова и целые фразы по-французски и произносил их с не меньшей свободой и уверенностью, чем, насколько я помню, моя бонна, единственная в жизни знакомая мне парижанка. За черным кофе мы попивали наливку домашнего приготовления — вишневку на меду. Не в моих правилах — ни прежде, ни теперь — отказываться от бокала доброго вина в приятной компании. Захмелев, я тоже хотел что-нибудь рассказать, но хозяин разошелся и не давал мне вставить ни слова. Наконец, улучив момент, когда он осушал свою рюмку, я спросил:
— Вероятно, и эта набитая перчатка на стене тоже из Парижа? Может, какая-то особа позволила ради вас отсечь себе руку, забальзамировала ее и подарила вам на память? Нечто вроде символического обручения?..
Я сразу же осекся, заметив, как переменился капитан. В его глазах сверкнула ярость, он сорвался с места и встал между мною и стеной, как бы желая заслонить от меня перчатку. Когда-то белая, она была необычайно искусно набита, воссоздавая, наподобие гипсового слепка, форму прекрасной женской руки. Под ней висел букетик засохших цветов и тут же рядом, на огромном гвозде — сковорода, покрытая старым застывшим жиром.
Он нахмурился, сжал кулаки. Неужели сейчас вспыхнет дурацкая ссора? Он пьян и не понимает, что я не хотел его задеть. Ведь я же чувствовал, что не следовало — и вообще никогда не следует — иронизировать над чужими реликвиями.