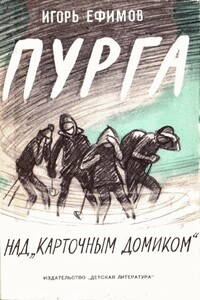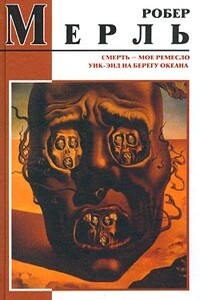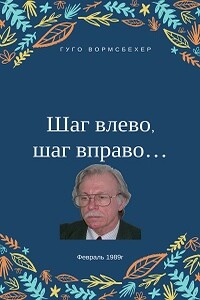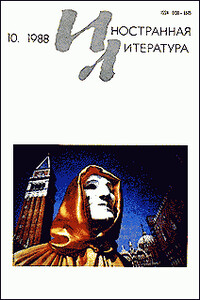Зрелища | страница 45
Особенно был поразителен драматург Всеволод.
Этот лысый, с начинающимся животом и вторым подбородком Всеволод, в своем вечном свитере и старых башмаках, почти ничего не говорящий, неспособный ни рассмешить, ни спеть, ни вспомнить подходящий к месту страшный случай, обладал непонятной властью над встречными женщинами, он порабощал их за день, много за неделю, добивался единственности и всего остального и тут же оставлял, чтобы бежать дальше — удержать его не было никакой возможности. Знакомые и случайные встречные, красивые и уродины, жены сослуживцев, подруги друзей, кондукторши, продавцы, актрисы — ему было все равно, его на всех хватало. Как ему все это удавалось, никто не понимал. Да, конечно, в нем светилась известная привлекательность, в насупленных глазищах, в жестких чертах губ и подбородка, в лице, которому даже бритый череп придавал какую-то законченность, и также во всей повадке, но ведь были и другие, тут же, за тем же столиком, и красивее и мужественнее на вид, и умнее — так вот нет же, у него получалось, а у них ни в какую, как они ни старались. Сережа, ходивший за ним с открытым ртом и бесстыдно набивавшийся к нему то ли в друзья, то ли в последователи, чуть не плакал иногда с досады, глядя, до чего тот доводил за два дня какую-нибудь прелестную хористку из хорового коллектива вагоностроителей, на которую сам Сережа едва смел смотреть издалека и молиться, а этот шел себе напролом, и через пару дней хористка у всех на виду ловила его в коридоре за руку, заглядывала в глаза и спрашивала, глотая слезы — «почему ты не пришел вчера?», а он отворачивался, махал кому-то рукой, но говорил при этом — «я? не пришел? Как тебе не стыдно, я стоял там целый час». — «Где ты стоял? Я бегала по всем этажам». «Да-да, — отвечал он, — я ждал, я мучился без тебя», — но сам опять смотрел в сторону и с кем-то здоровался, и кому-то кивал, а она цеплялась за эту ниточку, брошенную им, за смысл слов, спрашивала — «это правда? ты мучился?», а он отвечал все с тем же равнодушием — «да, конечно, я места себе не находил», и так без конца.
«Вот так! так с ними и надо, — думал Сережа, который, в отличие от Ларисы Петровны, восхищался такой простотой приемов. — Ах, какой спектакль, как он гениально это играет. Текст идет о любви, а все остальное опрокидывает. Интонации, жесты — все о равнодушии к ней, о презрении. Вот как надо! Чтобы она дрожала, чтобы цеплялась за смысл слов, ей уже страшно в них не поверить, а если посмеешь не поверить, то вот тебе сразу останется только презрение и издевательство, и чем слаще слова, тем страшнее за ними презрение — попробуй только не поверь. А те, другие, что говорят и вздыхают по старинке, и трогают за пальцы, и хотят понравиться, и вертят себя с наилучших сторон, неужели они не видят, как это безнадежно, как это ни на кого уже не действует. Хотя сам-то я вижу и понимаю, а не могу так, как он. Где же этому научиться, откуда набраться такого холода души, чтоб не распластываться перед ними, чтобы выдержать их красоту и, наоборот, их заставить ползти за собой. Нет, это невозможно, я никогда такому не научусь».