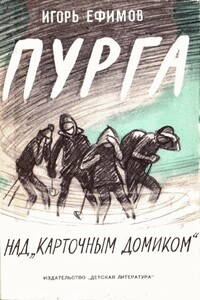Зрелища | страница 38
И начиналась расправа.
О, какой здесь был арсенал приемов, какая отработанность, какое хладнокровие закаленных бойцов. Сколько мелких уколов успевала нанести любая Секретарша или машинистка или даже рабочий сцены, когда обязанности бесправного помощника режиссера отдавали Сережу в их безжалостные руки. Ибо мало того, что он не был защищен собственным авторитетом, опытом или презрением к обидчикам, — он был, кроме того, еще юн и, значит, что-то еще воображал такое о своей исключительности, надеялся на свою незаменимость в этом мире, и они почему-то хотели поскорее выбить из него эту надежду, поставить на уготованное место и согнуть, уговаривая при этом всех и себя в первую очередь, что действуют так из самых достойных воспитательных побуждений. С того момента, как он входил и в нем узнавали юность и надежды (а узнавали, конечно же, сразу), будто бы звук трубы пробуждал на бой добровольных воспитателей, и сколько же разнообразия и изобретательности проявлял каждый в одном только способе встречи. Нет, они не были какими-то хамами, которые бы бессмысленно ругались, кричали, гнали бы вон и топали ногами. Насколько убийственней, например, было заниматься своим делом, долго не обращать внимания и заставлять вошедшего кашлять, мяться перед столом, проникаться сполна сознанием собственной никчемности и назойливости и только время от времени поднимать на него укоризненный взгляд, который раздавит, его, зальет краской лицо и вытолкнет за дверь бормочущего «потом, потом». Или можно было еще изображать испуг и изумление: как вы осмелились! Да кто вы? Да знаете ли вы, что за это бывает? Или усталость и готовое презрение к вашей глупости, которая, конечно, сейчас проявится, к заискиванию или, наоборот, нахальству, к вашему лицу и одежде, к вашим словам, жестам и улыбкам, и даже к тому, что вы стоите здесь и терпите все это презрение. Или же непрерывное страдание, которое вы причиняете одним своим мерзким видом. И если после всего этого пришедший не исчезал, не спасался бегством, а продолжал настаивать, то начиналось какое-то ковыряние, что-то все же делалось для него из милости, из сострадания к его убожеству и нищете, с бесконечными задержками, промежуточными отказами, со всеми этими «придите завтра, ну что вы все торчите здесь и, боже мой, когда же это кончится», и, главное, с непрерывными проверками — помнит ли он, что мы не обязаны, что он никто, бесправный проситель, а если не помнит, то мы немедленно все прекращаем. А когда, наконец, было готово — отпечатано несколько машинописных листков, или добыта банка краски завхозом, или починен реквизитный пистолет — то листки протягивались вам так быстро, что невозможно было подхватить, и они разлетались по полу, за краской нужно было лезть самому на верхний стеллаж, где она стояла, никому не нужная, все эти дни, пистолет же просто испытывался тут же холостым выстрелом вам в лицо; и, вылетев в коридор с колотящимся сердцем и закипающими слезами обиды, вы могли еще долго стоять там и слышать за дверью хохот и стоны безжалостных шутников. И если при всем этом Сережа терпел, не сбегал и продолжал работать в народном театре, то наверняка кроме любопытства его удерживала там все та же нелюбовь к себе: он даже не пытался установить для себя, что ему нужно терпеть, а чего терпеть ни в коем случае нельзя, — все, что было трудно, в чем приходилось перешагивать через себя, привлекало его как собственная слабость, которую хорошо бы при случае и преодолеть