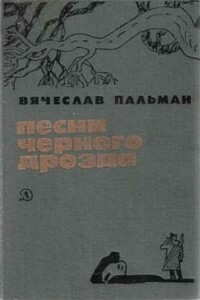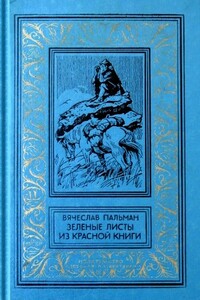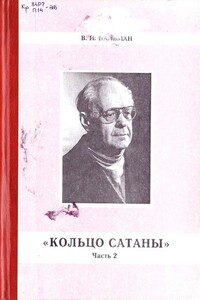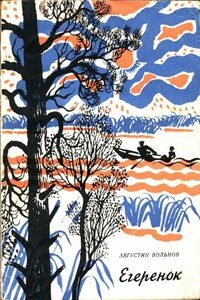Девять хат окнами на Глазомойку | страница 78
Ощутив вкус власти, посредники прежде всего позаботились об удобствах и благополучии для себя. Они возвели поселки своим работающим и служащим — часто за забором. Они складывали свои годовые планы так, чтобы выполнить их при любых обстоятельствах. И выполняли, поскольку никоим образом эти планы и заработки не зависели от урожая и дел на ферме. Хоть половину урожая уберут в колхозе к зиме — ихние показатели в ажуре, есть прибыль, есть премия и все такое.
Посредники поднялись выше колхозов и совхозов. И посматривали на них свысока, продолжая переманивать к себе удобствами жизни и заработками последних деревенских механизаторов. Создатели хлеба и молока сделались надоедливыми просителями тех, у кого и машины, и специалисты, и материалы. Приезжая к посреднику, колхозный механик или строитель еще у крылечка стаскивал с головы шапку. А в грузовичке у него под оберемком соломы стоял ящик кое с чем. Для задабривания…
Отдадим должное районным учреждениям: они довольно часто конфликтовали с посредниками. Требовали, грозили, писали, выступали на совещаниях, поскольку знали, что нужно для села, когда и сколько чего нужно. Но фонды опять же выделяли не по требованиям, а по наличию, куда как меньше, чем надо. Какие споры разгорались, когда делили между хозяйствами резину или строительный материал, минералку или технику!..
Руководители посреднических учреждений, которые жили в районе, не могли не считаться с мнением райсовета, тем более райкома. Их личные дела лежали в райкомовских сейфах. Отсюда можно было схлопотать выговор или наказание покрепче, даже лишиться доверия руководить. Спасительный громоотвод существовал выше — в тресте, главке, министерстве, откуда присылали фонды и, не видя полей, ферм, строго следили за цифрой. Если район требовал от их низового руководителя работу выше плана или вообще без плана, такой руководитель просил защиты и получал ее. Прямая подчиненность по административной и хозяйственной линиям обеспечивала районному посреднику спасительную подмогу в критические моменты деятельности.
С проблемой разобщенности средств, сил и дефицитных фондов Глебов столкнулся в первые дни секретарской работы. Он попытался взять в свои руки фонды материалов и машин, право менять планы в интересах хозяйства и во времени. У него это не получилось. Заведенная машина двигалась своим путем. И он отступился. А после актива, когда агроном Савин подлил масла в огонь, высказавшись о неповоротливых посредниках и странной зависимости от них, Глебов загорелся вновь. Сколько же можно? И где выход, особенно в этом трудном году? Он успел побывать — и не однажды! — в районной конторе «Сельхозтехники», межколхозстрое, в поселке сельстроя, на базе дорожников, в «Сельхозхимии», у мелиораторов, лесников, в автоколонне, рыбхозе. Смотрел, слушал, спрашивал. И возмущался! Как далеко отошли посредники от главного дела, как наловчились составлять свои планы, даже заранее учитывали в штатном расписании шефскую помощь при уборке и сенокосе… Объекты для приложения сил оказывались самыми выгодными для посредника, хотя и не являлись такими для хозяйства, которому оказывалась услуга; строили, к примеру, дорогу, где им не мешало болото или река; осушали поле, где не было леса и камней; возводили что пограндиозней, лучше комплекс, чем полусотня жилых домов; лесники рубили лес для сплава на север и не продавали ни одного бревна соседнему колхозу. Словом, бойко трудились, нацелившись на прибыль, которая была записана в плане. Эти прибыли оказывались немалыми и в том случае, если у заказчика случался полный провал. И деньги, отпущенные государством для колхозов, частично возвращались в банк, создавая вместо ценностей иллюзию труда.