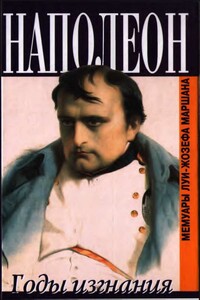Тюремные записки | страница 5
Мало мальски серьезные книги я припрятал в Москве, их слегка заинтересовал десяток икон и их, кажется, тогда же изъяли «для проверки» но в результате постоянной слежки они знали, что в отличие от Синявского на Север я не езжу, старые церкви и старушек не граблю. Купил или обменял у кого-то десяток икон — обвинить в этом нельзя. Но в общем, кроме допроса мамы меня в обысках мало что волновало, на всякий случай смотрел, чтобы чего-нибудь не подложили и не слишком много украли — зная, что даже по советским дегенеративным законам ничего криминального у меня нет. И лишь когда они стали описывать для вывоза коллекционные иконы я единственный раз попросил оставить мне бабушкину, не коллекционную, ничего не стоящую в деньгах маленькую печатную на фольге, начала ХХ века иконку Казанской божьей матери, которая ездила с нами в эвакуацию, в Ташкент, оставалась у бабушки и была единственной уцелевшей семейной нас охранявшей иконой. И мне ее оставили, она до сих пор у меня цела.
Правда, и после второго ареста уже через восемь лет, я попросил то ли следователя, то ли оперативника оставить мне тетрадку Шаламова (из всего изъятого архива), где он писал: «Все сборники (стихов Шаламова — С. Г.) имеют один общий эпиграф из Блока:
Я очень лично воспринимал эту запись, как адресованную (Шаламовым? Блоком?) только мне (и действительно, в архиве Сиротинской ее нет). И мне тетрадку эту оставили, она уцелела, хотя для того, чтобы получить Библию мне пришлось в той же Калужской тюрьме проголодать еще три недели.
В общем, мысленно, я уже был готов к тому, что окажусь в тюрьме. Помню, встретил как-то Сашу Морозова и говорю: «Ну вот, скорее всего, арестуют». (Тем более, что я знал довольно много людей, прошедших через это и в последние годы, или находящихся в тюрьме. Литературовед и поэт Леня Чертков, уже отсидел несколько лет и с ним мы были в более-менее приятельских отношениях. Был Алик Гинзбург, который тоже два года просидел — арест уже опять не был редкостью. В Киеве был арестован Сергей Параджанов, выслали из СССР Виктора Некрасова.) Саша на меня посмотрел с ужасом, сказал: «Как же вы так спокойно об этом говорите!». Я пожал плечами, и ответил: «В Советском Союзе оказывались в тюрьмах люди и получше меня». На этих словах, к его ужасу, мы разошлись.
Сохранялась, правда, слабая возможность как-нибудь уехать из СССР. Но сам я уезжать никогда не собирался, хотя меня уговаривали это сделать. Помню, коллекционер Владимир Тетерятников незадолго до своего отъезда говорил, что меня неизбежно посадят. Но я-то писал об эмигрантской литературе и точно знал, что эмиграция — это не выигрыш, а обмен одной потери на другую. Может быть, ты что-то и приобретаешь, но очень многое теряешь. Я знал, что моему двоюродному деду Александру Санину в эмиграции было совсем не так уж хорошо, хотя он одно время руководил вместе с Артуро Тосканини театром Ла Скала. Так что иллюзий, в отличие от многих людей тогда, о достоинствах жизни в эмиграции, у меня не было. И вообще я был довольно упрямый человек: ну с какой стати? Это моя страна, я знаю свою семью за триста лет, с какой стати я должен уезжать?.. Позже, в Боровске я объяснял участковому, который меня все убеждал: «Вам же здесь все не нравится, почему вы не уезжаете?» Я ответил ему: «Ну почему же все не нравится? Мне многое нравится! Мне вы не нравитесь».