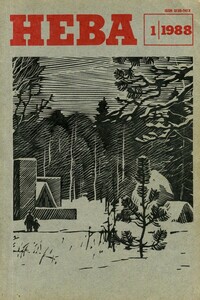Моцарт | страница 4
А приятно выйти из квартиры. В ней холодно, не топлено, сыро, и без движения мерзнешь, как ни кутайся. На улице и светло от снега (не то, что в сумраке комнаты с лампадкой у иконы), и теплее, чем казалось из окна; и люди — хоть и редкие прохожие, и угрюмые, и сгорбленные, и спешащие куда-то, а всё же люди. Оглянешься мельком на них: кто они, куда бегут — в пальто, в полушубках, шубейках, шинелях… И влечет меня за ними, и кто-то водит меня вокруг этих мест, и что-то обещает; я не противлюсь, но крепко держусь за старушку Авилову, она выведет, я знаю, а отпущу её — заблужусь, не выйду, так и не найдя дороги… Только неотступно за нею, Лидией Алексеевной, по мокрому снегу — в магазин и обратно — Спиридоновкой; только бок о бок с этой вещей женщиной, ясновидящей и здравомыслящей женой, хозяйкой дома, бесконечно и тайно любимой когда-то замкнутым, осторожным, одиноким Чеховым; только вслед за нею, поднявшись холодной темной лестницей, блуждая в лабиринте коммуналки и мельком бросив взгляд вглубь одной из нетопленых комнат (в полутьме которой, кутаясь в халат, смотрит из-за клавира юноша) — только здесь вдруг благодарно понимаешь наконец, мысленно отпрянув, — Моцарт.
Крышка клавира открыта. Руки лежат на клавишах, но в комнате тихо, ему не нужен инструмент — он сам звучание, и то, что звучит в нем, убивает его. Он не сочиняет музыку. Она принимает его формы, она усваивает ритмы его сердца, перехватывает дыхание. Его жизненная энергия перетекает в энергию её crescendo-diminuendo, её дьявольских хроматизмов и божественных модуляций: «Голова и руки мои так полны третьим действием, что было бы не удивительно, если бы я сам превратился в третье действие», — в изнеможении пишет он отцу. И как душа покидает тело, покидало его законченное сочинение, уходя от него в мир. Оставляя ему на выбор: либо корчиться в дурацких шутках и безумствах, либо оцепенеть от вселенской пустоты и высочайшей, безысходной боли: «Боже, Боже, для чего ты меня покинул?»
И вдруг — шурх-шурх-шурх-шурх — «пильщик» в куче дров в углу, сопит, трудится, пилит, осыпая полено мелкой пыльцевидной стружкой. Вольфганг оборачивается, слушает, улыбается, представляя себе усердного «пильщика», и уже не дрожит от холода, но, напротив, радостно возбужден. Он хватается за драповый костюм блошиного цвета1. Тафта подкладки в камзоле изодралась, но другого нет, он влезает в него, торопливо застегиваясь. Одевшись, минует в легком менуэте комнату Авиловой, выходит на лестницу, тарахтит башмаками по каменным ступенькам, толкает тяжелую парадную дверь и тоже удивляется: снежно, сумеречно, но тепло, — его согревает движение, улыбки прохожих, возбуждение и даже морозный воздух. Он ступает по рыхлому снегу, липнущему к башмакам, и бежит ко мне на встречу, оставляя на тротуаре черные следы… Я давно его жду здесь на углу Спиридоновки и Малой Бронной.