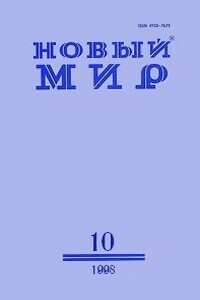Моцарт | страница 27
У дома неподвижно чернела обогнавшая их карета. Лошади топтались на месте, понурясь и всхрапывая в темноте. На высоких козлах как колодезный журавль клонился тяжелой головой старый кучер. Окошко кареты зашторено: в него подглядывают изнутри экипажа, наблюдая за улицей.
Зимой темнеет рано, но горожане обычно не спешат зажигать свечи. У Моцартов освещены все окна: тени ложатся на занавески бесформенными пятнами, неожиданно фокусируясь в четкий черный силуэт. Это Наннерль смотрит сквозь занавеску на улицу — долго и неподвижно; и как подошла, так же стремительно уходит. Леопольд пробивается к окну боком, крадучись, и мягко упершись удлинившейся макушкой в верхний край занавески, всё уплотняясь, усыхает, сморщась до мумии, до её каменноугольной черноты, и так же, как и Наннерль, надолго застывает в нижнем углу окна резким черным профилем.
Сбивчиво тарахтя колесами по бородавчатой мостовой, проскрипел почтовый дилижанс, спугнув цапавшихся при дороге котов. Отпрыгнув, коты замерли под окнами дома с разинутыми ротищами, подобно галантным кабальеро с уже готовой сорваться с губ серенадой. Дождались, когда дилижанс проехал, и вдруг тягуче, с упоением, почти соприкасаясь озверелыми мордами, завыли медовыми голосами, то затихая, то раскаляясь от избыточных децибел, угрожающе нараставших, отчего их буквально сотрясало. Причем один как сидел, так и продолжал сидеть загадочным сфинксом, растягивая в улыбке вопящий рот, а другой — медленно, со скоростью раскрывающихся лепестков бутона, двигался мимо него, явно проиграв, но соблюдая при этом (что так присуще политикам, дипломатам и женщинам) хорошую мину. Ни разу, — и этот нюанс особенно разителен, — коты не взглянули один на другого.
Метнувшаяся от подъезда тень внезапно оборвала их задушевно-удушливый дуэт. Коты, утробно рыгнув, разбежались. Дверь кареты распахнулась, и тот, кто ввалился в карету в клубах холода, — без шляпы, в концертном костюме, — обжег лицо м-ль Женом горячим дыханием. Кучер, чмокнув, дернул за вожжи и пустил лошадей легкой трусцой.
М-ль Женом улыбалась, сжимая в ладонях его голову. Он так и не осознал, чем же его прельстила эта женщина с матовыми веками, смежающимися, как у птиц. Ему казалось, что лошади не мчались, а, топчась на месте, били о землю копытами. Хотелось крикнуть кучеру: догонят же, опознают, вытащат из кареты и вернут назад! Князь ловко подцепит ухо двумя пальцами и будет крутить его до красноты, до крови. Папá — смотреть на это и беззвучно плакать. Анна Мария безропотно прикладывать примочки. Наннерль испуганно подглядывать из-за двери, а он — ждать минуты, когда окажется один, чтобы, открыв окно… Воображение, с головокружительной явью потянувшее вниз, заставило мысленно отшатнуться. И опять он в чадной квартире, откуда ему видна только галерея соседнего дома да собственное отражение в стекле. А за окном та же вязкая тина сумерек и то же жалкое сумеречное освещение, от которого слезятся и болят глаза. Ворчливый Леопольд снова листает книгу, засадив их разучивать новый квартет, морщится, тычась носом в партитуру: «Ох, глаза, мои бедные глаза», и минуту спустя: «Ох, глаза, бедные мои глаза». И весь вечер — «глаза, глаза, глаза». Что же это за счастье пробудиться однажды и решить для себя