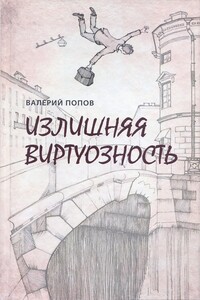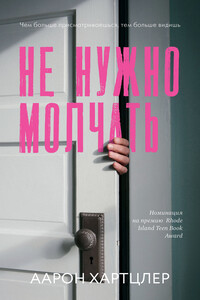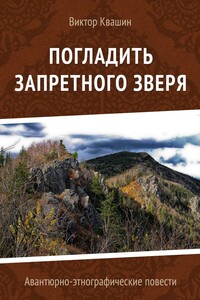Моцарт | страница 23
Еще очень далеко и до заключительного tutti, и до звучного плескота аплодисментов под сводами Мирабель, летней резиденции архиепископа. Его светлость скучает, рассеянно поглядывая на зал. Свесившейся с кресла рукой машинально тянется к горячим изразцам, обжегшись, тут же отдергивает пальцы.
Вольфганг ерзает, по ногам гуляет сквозняк. Если бы не теплая ладонь матери, время от времени ласково сжимающая ему руки, они бы тоже окоченели.
В лице Анны Марии, недоверчивом и настороженном, есть что-то птичье: беззаботное, неунывающее, беззащитное, — и в узко посаженных глазах, и в маленьких губках сердечком, еще недавно целовавших его по утрам. Таким это было счастьем — доспать в постели матери минуты, оставшиеся ему от утреннего сна, сбросив все ночные страхи и дурные мысли с той же легкостью, с какой он сбрасывал с себя одеяло, кинувшись в родительскую спальню. Зарыться там носом в подушку, и спать — так сладко, так крепко, как спится только в детстве.Пригрев его, мать уходила. Ему слышался за дверью её голос, отчитывавший Трезль, и бубнивое отпирание служанки.Медленно падали за окном хлопья. Сквозь разбухавшую дремоту тонкой струйкой, как в песочных часах, утекало в ничто иссякавшее сознание; и с последней утекшей песчинкой — он засыпал. Детский сон, что бездумное почивание в блаженной тьме материнской утробы, и каждое утро — заново рождение на свет Божий: всё в новость, всё в радость, всё как в первый раз. Безболезненно вспарывается светом утроба тьмы и бездыханное «я» заряжается его энергией: в доли секунды свет творит тебя и — через тебя — всё видимое и невидимое. Мать садится на постель, дует ему в ладошку; он обхватывает её руками, прижимается, замирает и даже зажмуривается… И только смерть (по его мнению, подлинная и лучшая подруга) да мать никогда не оставляли его без утешения.
Рука архиепископа боязливо касается обжигающих изразцов, сжимается в кулак и уже барабанит по глазурным плиткам сухими длинными пальцами в такт музыке. Глубокая пёсья печаль на лице. Глаза неподвижны, широко раскрыты, но внутренний взгляд блуждает, и от этого зеркало глаз запотело, как стекло в бане.
Что ему грезится под звуки Аллегро: бликующего, задыхающегося, кружащего голову и вдруг зависшего на взлете, когда сердце ухает в бездну из ледяных мурашек, а вы парите — бездыханны, бестелесны, в пустоте, в безмыслии, с одним только предчувствием — вот оно, здесь, совсем близко? Отсюда этот жар, этот нерв, этот полет и полуобморочное замирание: молчу, молчу, но ведь вот оно, чувствую, слышу, вижу!..