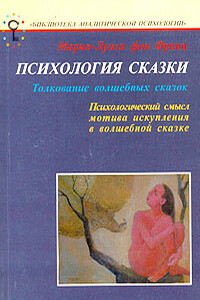Психотерапия | страница 45
Кроме того, этот сон мне кажется впечатляющим, практически классическим воплощением таинственного процесса, который возникает, когда аспект бессознательного становится сознательным.
Дело в том, что мы «объясняем» бессознательное с помощью символов и концепций, которые и сами произошли из всё той же первоосновы — ignotum per ignotius,[58] как говорят алхимики и на что неоднократно указывал Юнг. Символические образы, которые поднимаются из бессознательного, по самой своей сути относятся к материалу, который также преимущественно бессознателен,[59] и поэтому «каждая интерпретация остаётся гипотетической».[60] Каждая интерпретация — это только «приближенное описание и характеристика бессознательного зерна смысла»,[61] и таким образом сама по себе «новое облачение мифа». Однако этот процесс должен быть осуществлён, чтобы сохранить контакт культурного сознания с инстинктивной почвой бессознательного.>15 «Профессор» очевидно представляет собой интеллектуальный подход, который пытается усвоить содержания бессознательного (тогда как человек в железной маске олицетворяет дух глубин, порождённый мифом). Временное переключение ролей с одной стороны показывает естественную близость этих двоих, но, с другой, это также может быть интерпретировано с точки зрения опасности магии. Если дух бессознательного поглотит интерпретирующий дух, результатом будет высокомерно-мистическая псевдо-интерпретация и интуитивно двусмысленное «провозглашение» «нового» мифа. Такого рода вещи в последнее время были в почёте у многих студентов, изучающих мифологию, так же как и у полу-мистических «движений», игнорирующих сознательный человеческий подход и сознательный человеческий способ смотреть на вещи. Разница между профессором и духом состоит именно в том факте, что один из них человек, а другой частично не человек.
Даже в академической среде исследователей мифологии сегодня развивается тенденция в очередной раз позволить символам говорить самим за себя, порождая больше символов без какой либо связи с фундаментальными аспектами глубинной психологии. Я имею в виду такие исследования, как в Symbolon или в журнале Antaios Мирчи Элиаде, J. Schwabe и др. Эти исследования рискуют потерять себя в неограниченной амплификации, в которой практически всё является практически всем и в то же самое время ничем. Чего не хватает, так это определённых рамок и Архимедовой точки опоры за пределами символической системы. Этими рамками может быть только отдельный человек, так как это именно в его или её душе возникают символы. Поэтому мне кажется, что исследование символов, которое не учитывает психологию бессознательного, является бессмысленным занятием. Оно обязательно приводит к том, что исследователь оказывается одержим символами, становится холодным и хаотичным вследствие утраты индивидуального человека как «фундаментального структурирующего элемента» для материала.