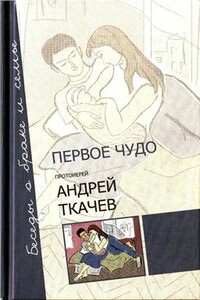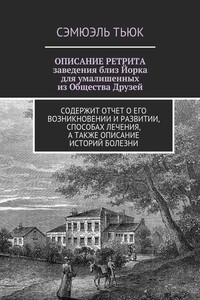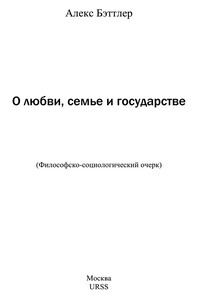Христианская психология в контексте научного мировоззрения | страница 90
То, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его «им самим», — неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и «беспрецедентной». Человек, определяемый только своей природой, действующий в силу своих природных свойств, в силу своего характера, — наименее личностей. Утверждая себя как индивида, как собственника своей природы, сводя свое «Я» к своей природе и противополагая ее другим природам, человек тем самым осуществляет смешение личности и природы (ипостаси и усии). Это свойственное падшему человечеству смешение и обозначается словом самость, которая, кстати, не совпадает с содержанием таких понятий, как «эгоизм», «эгоцентризм», «индивидуализм» и др. Последнее — это уже индивидуальная, ценностная установка самосознания в своем дистанцировании, отчуждении человека от других.
Введя две эти категории — сущности (природы) человека и способа его существования в человечестве, — сообщая каждой из них свое отдельное значение, святые отцы могли впредь беспрепятственно укоренять личность в бытии и персонализировать саму онтологию человека (см. также гл. XIII второго раздела книги).
Итак, личность не есть качество, не есть особая структура свойств или черт; это прежде всего и главным образом — целостный, всеохватный способ бытия сразу всего человека, в его предельной адресованности Другому и в его предельной открытости Богу. Подобная целостность, а главное — тотальность личностного бытия не есть, конечно, плод естественного созревания. Здесь всякий раз прилагается усилие и осуществляется преодоление собственной самости и восхождение к собственной ипостасности; не всякий индивид во всякое время является личностью, осуществляет личностный способ бытия.
Личностью надо «выделаться» (Ф.М. Достоевский). В нашей византийско-православной, европейско-русской культуре предельно необходимой предпосылкой личностного способа бытия человека в Мире является субъектность, необходимой, но… недостаточной. Необходим еще и Другой, необходимо со-бытийствование с Абсолютным Другим, чтобы эта возможность стала действительностью. В противном случае и сам человек, и мы, сожительствующие с ним, постоянно будем сталкиваться с пошлым разнообразием частных форм персональности (налично-обыденных форм «личности»), которые без Божией помощи никогда не соберутся в подлинно личное бытие.
После этих предварительных размышлений перейдем от гносеологического вектора к онтологическому.