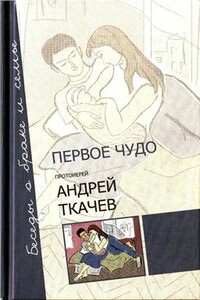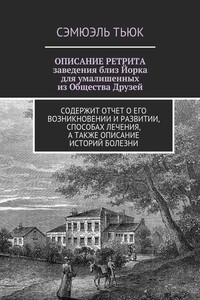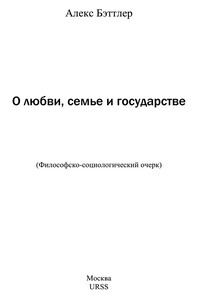Христианская психология в контексте научного мировоззрения | страница 88
Следующий этап — неклассическая психология. Прародителем этого этапа развития психологического знания, несомненно, является 3. Фрейд. Сутью случившегося парадигмального сдвига в системе знания стала попытка вырваться за пределы феноменологии психического, которая в это время интенсивно накапливалась в классической психологии, и, соответственно, попытка входа в феноменологию человеческой реальности.
Существенно, что это, во-первых, именно «попытка», но не само вхождение, и, во-вторых, в феноменологию, но не в саму реальность. Здесь главный вопрос: как и в каких феноменах я дан себе с точки зрения теперь уже заинтересованного наблюдателя?
На первом этапе этого парадигмального сдвига — взрыв категориальных новаций, но, и это принципиально важно, объяснительные схемы и логика мысли оставались прежними: причинно-следственными. Точно такими же, как и в предшествующий классический период развития научной психологии.
Важно в данном случае, что именно на этой точке прорыва стали интенсивно оформляться две ветви мировой психологии: так называемой «западной», гуманистической, и «советской» — культурно-исторической. У первой объектом пристального внимания стала «человеческая ситуация» (блестящий выразитель такой позиции — Э. Фромм), у второй — «человеческая деятельность» (не менее блестящий ее выразитель — А.Н. Леонтьев).
В чем же существо этого, уже сложившегося, этапа психологического познания?
Сегодня очевидно, что психология середины и конца XX в. осуществила не только вхождение, но и буквально погружение в полноту человеческой реальности. И это погружение потребовало привлечения всего многообразия гуманитарного знания (философского, богословского, политэкономического и т. д.), чтобы хоть как-то сориентироваться в структурах и значениях той самой человеческой ситуации и человеческой деятельности.
Что произошло? Произошло кардинальное преобразование феноменальности психического в реальность психологического. Материей, в которой осуществилось это преобразование, стал культурно-исторический континуум в своей знаково-символической ипостаси.
Знаково-символический инструментарий оказался мощным средством ориентации, а главное — структурации самого пространства психологической реальности. Но — я хотел бы специально это подчеркнуть — ориентации в пространстве именно моделей, знаков, символов, знаний о человеке, но не в пространстве самого человека. Вот на этой коллизии гуманистически ориентированной психологии начинает зарождаться, складываться, прорисовываться новый портрет психологии в интерьере современности.