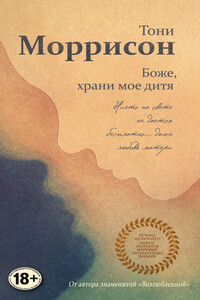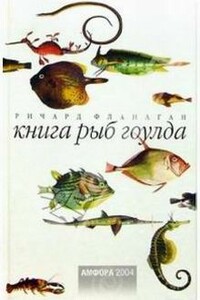Первое лицо | страница 18
Просто жуть, вздохнул Хайдль. Не могу передать, насколько…
В какой период вас заставляли этим заниматься?
Хайдль вскинул руки.
Я и так разболтался.
Даты.
Понимаешь, тут вот какая штука: ты слушаешь, как умирает козлик. Можно подумать, что…
Год примерно семидесятый? Семьдесят первый?
…с кого-то живьем сдирают кожу, а ты стоишь и смотришь. Если, конечно, тебе под силу такое вообразить.
Или конец шестидесятых?
Не имею права говорить.
Где вас готовили? Расскажите.
Да какая разница где? – Он вмиг напустил на себя гнев. Суть в том, что есть козлик, маленький…
Козленок.
Да-да, козленок, и ты слышишь, как он умирает, а к тебе то и дело заходит офицер, который отдал приказ стрелять.
В Штатах?
Как там козлик? – спрашивает он. Видишь ли, это проверка.
В Лаосе?
В Лаосе козами не разживешься. В Лаосе велась не подготовка, а оперативная работа. Итак, с тебя не спускают глаз.
В Германии?
Психопаты им не требуются… во всяком случае, для моей работы… им не требуются бесчувственные чурбаны. Им нужны люди, способные чувствовать и вместе с тем понимать, что эти чувства необходимо побороть.
Я отчаялся задавать однотипные вопросы… оставил надежду получить хотя бы малейшие детали, которые придали бы этим россказням толику достоверности. Как и во многих других случаях, когда литературный негр отступаться не должен, я отступился. Но не сдался.
В этот миг Хайдль поднял взгляд, посмотрел мне в глаза – и я поверил. Пусть лишь на один быстротечный миг, но я поверил. Чему поверил, трудно сказать, но я старался следить за мыслью Хайдля, полагая, что это куда-нибудь да приведет.
Теперь ты знаешь: для них каждый человек – такой вот козлик, сказал мне Хайдль. Теперь ты знаешь, что любой будет умирать медленно, если поступит надлежащий приказ.
На Филиппинах?
Неохота становиться таким козликом.
Он умолк, зрачки превратились в пару черных пуговиц, пришитых к лицу.
И неохота становиться таким наблюдателем.
Рассказ про козленка удался на славу. Ну, может, не совсем на славу, но это было уже кое-что. Впрочем, когда я записал его черным по белому, он, как выразилась, ознакомившись с рукописью, Пия Карневейл, просто не выстрелил. В нем, по ее словам, отсутствовал стержень. И я понимал: редактор прав. Описанная мной ситуация казалась надуманной, хотя в устах Хайдля все звучало вполне достоверно. Многие его рассказы были именно такого рода: они прорастали сквозь дикое нагромождение моих предположений, надежд и страхов, вписываясь новыми загадками в историю его жизни, и при этом ни в какую не ложились на страницу. Они словно плыли и нипочем не опускались на землю; в них не было ни грязи, ни деталей. А в редакторском кабинете, представлявшем собой грот с машинописными стенами, с растущими повсюду сталагмитами рукописей, Пия сказала, пошевелив поднятыми кверху длинными, смуглыми пальцами: