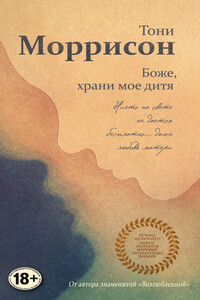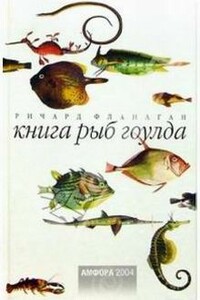Первое лицо | страница 142
Зигги, уже второй час. У нас остается чуть более четырех часов, и это все.
«Нуган-Хенд» был вездесущ, сказал Хайдль. Поставлял режиму Каддафи взрыватели замедленного действия и пластит. Гнал оружие в Анголу, разведывательные корабли – в Иран. И вдруг грянул 1980-й – ба-бах! Фрэнк Нуган застрелен в Литгоу, в собственном «мерсе». Майк Хенд исчезает из Австралии, о нем больше ни слуху ни духу, а все активы из банка выведены в течение предшествующих месяцев, остались только долги на пятьдесят миллионов долларов. Ясно тебе?
Зигги, какое это отношение имеет к книге?
Ну, Киф, если ты этого не понимаешь, то больше я ничего добавить не могу.
В сумраке зимнего дня он вернулся к созерцанию унылого индустриального парка Мельбурнского порта – архитектурной катастрофы бетонных громад из наклонных плит под наклонным бетонным небом. А потом негромко заговорил.
Когда меня найдут мертвым, всем все станет ясно.
У меня больше не было сил это терпеть. Мне хотелось убить Хайдля, но, насколько я понимал, хотелось этого только мне одному. К несчастью, такое поручение не смог выполнить для своего босса даже верный Рэй. Нутром я чуял, что за идеей убийства скрывался очередной трюк, который Хайдль сейчас изобретал для всех нас: в орбиту этой игры были втянуты вчерашнее покушение, смакование темы самоубийства, покупка «Глока», намеки на посмертную загадку, великий заговор…
Я не переваривал эту фальшь, обволакивавшую окружающих, это извращенное любопытство, с которым он играл людьми в экстремальных ситуациях, чтобы только понаблюдать за их реакцией. Мне не удалось объяснить это, но я не сомневался, что ситуация была куда более банальной, нежели покушение на его жизнь. И мне уже стало все равно. Я понял: все россказни Хайдля преследовали одну цель: не дать мне закончить книгу. Он и сейчас не умолкал, а я ненавидел его все сильнее.
Заткнись! – вырвалось у меня.
Оттолкнув свое кресло-бочонок, наводившее на мысли о Фрэнсисе Бэконе, я выпрямился с каким-то странным чувством, а может, и не с одним: терпимость, равновесие, внушенные воспитанием приличия перерастали в ослепляющую ярость. Подойдя к стоявшему у окна Хайдлю, я начал.
Умоляю, Зигфрид. Пожалуйста. Замолчи.
Хайдль резко развернулся и некоторое время смотрел на меня с ледяной сосредоточенностью, как ящерица на муху. Потом он неожиданно воспрял и принял почти удовлетворенный вид. На его лице не осталось ни следа досады и страха, и заговорил он совершенно новым голосом, звучным, примирительным голосом начальника, увольняющего презренную мелкую сошку.