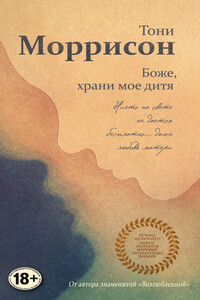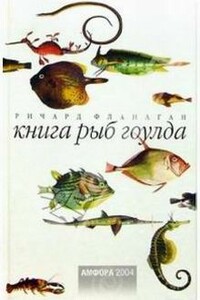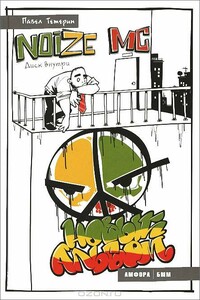Первое лицо | страница 127
Направляясь к мрачному уличному сортиру, я угодил в свежую паутину, затянувшую угол дверного проема. Почему-то меня охватила паника. Я смахивал ее, а потом оттирал щеки, но, вернувшись в бар, так и не избавился от липкого савана паучьих нитей. И внезапно Хайдль предстал передо мной не как человек, давший мне возможность получить работу и гонорар, а как неизбежность, наподобие неотвязной, удушающей паутины. По мере того как нарастал мой страх, злость шла на убыль, и у меня возникло ощущение, что Сьюзи – единственное мое прибежище. Я невольно признал, что в ее словах не было ничего дурного, тогда как мои собственные слова уже казались излишними: что плохого, если писатель пишет и написанное им вот-вот увидит свет?
По какой-то причине, отскребая липкое лицо, я решил, что избавиться от этих чертовых нитей можно единственным способом: вернуться к Сьюзи и сказать, что я очень сильно ее люблю. А потом я вспомнил, как довел ее до слез, как она обиделась. Мне подумалось: насколько же она беззащитна, а я просто хам, и моя гордыня скисла, превратилась в стыд от проявленной мной жестокости. Моей выходке не было оправдания, и, не допив оплаченное спиртное, я побежал домой извиняться. Но дома никого не застал. Сьюзи исчезла.
На кухонной раковине была записка, нацарапанная явно дрожащей рукой. Сьюзи сообщала, что у нее отошли воды и она своим ходом поехала в клинику. Терзаясь угрызениями совести и тревогой за жену, у которой начались роды, я схватил такси и ринулся следом. Сьюзи лежала на каталке в коридоре, на удивление спокойная, как будто бы я и не сбежал, когда больше всего был ей нужен. Сделав какое-то непривычное движение, она взяла меня за руку и объяснила, что схватки еще редкие и не слишком болезненные, примерно как сильные спазмы. К счастью, она ни словом не обмолвилась о ночной сцене. А я был слишком пристыжен и слишком взбудоражен алкоголем и раскаянием, чтобы извиниться. Так я и сидел рядом с ней на пластиковом стуле, глядя на ее восковые сомкнутые веки, пока меня самого, перебирающего и прогоняющего от себя мысли о Хайдле, тоже не стал одолевать сон. Тогда я стал прикидывать, как бы раздобыть вторую кроватку, новую стиральную машину, и Хайдль мало-помалу растворялся, в то время как флуоресцентный больничный мир, пропахший хлоркой, полный какого-то лязганья и позвякиванья, приобретал все большую конкретику и в конечном счете дал мне покой.
Когда я проснулся, Сьюзи расхаживала по коридору: схватки усиливались. Я бросился к ней, чтобы обнять, но она со стоном посмотрела сквозь меня, как будто впервые видела. Перепугавшись, я кинулся на поиски персонала. В дальнем конце коридора у сестринского поста болтали девушки. Я попросил их чем-нибудь помочь. Но то, что страшило меня, считалось у них совершенно обычным делом. Когда я стал молить о помощи, круглолицая акушерка, чтобы только от меня отделаться, пообещала в скором времени кого-нибудь прислать. Как в воду опущенный, я вернулся к Сьюзи. Через некоторое время – ожидание показалось мне вечностью – пришла медсестра, вместе с двумя санитарами она отвезла Сьюзи в четырехместную предродовую палату – тихую, пустую, с приглушенным освещением. Вскоре туда же доставили совсем юную роженицу, лет пятнадцати, не старше. Она безутешно плакала.