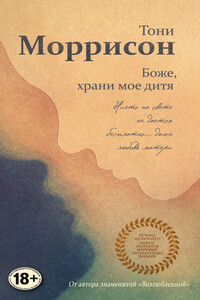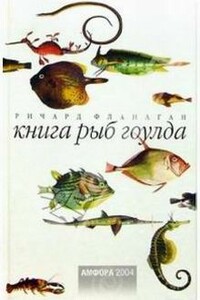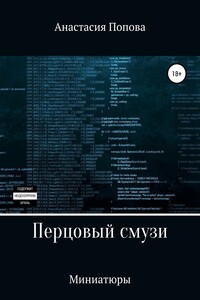Первое лицо | страница 105
Когда-то Салли был безвестным поэтом – в Мельбурне начала семидесятых такой удел ждал многих юношей, попавших под тлетворное влияние Бодлера, Берроуза и Бротигана. Щеголяя такими словами, как слезоточивый или чревоугодливый, он подвизался скромным архивариусом в муниципалитете Мельбурна. Салли считал, что Ницше по сей день остается неоцененным острословом.
Кто еще способен такое написать? – вопрошал он. «Я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми»[5]. Неплохо, верно? Или: «Разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека?»[6] Хорошо, да?
Салли считал, что Ницше напоминает бесшабашного эстрадного комика, который постоянно выходит за рамки хорошего вкуса, чтобы посмотреть на реакцию публики.
Я возразил, что философ в Германии конца девятнадцатого века – это, на мой взгляд, не то же самое, что стендаппер в мельбурнском пабе.
По мнению Салли, до читающей публики никогда не доходило, что Ницше просто острит.
Я предположил, что до самого Ницше это, вероятно, тоже не доходило.
И тут Салли понесло: он принялся сыпать афоризмами, как расхожими анекдотами:
«Случайный визит в дом умалишенных показывает, что вера ничего не доказывает»[7]. «Живое – не более, как разновидность мертвого, и притом очень редкая разновидность». «Ложь необходима и составляет условие жизни»[8]. «Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать»[9]. «На небе вообще нет интересных людей»[10]. Я вот думаю, не свихнулся ли он и не начал ли разговаривать с лошадьми, оттого что никто не понимал его юмора, заключил Салли.
Салли был намного старше меня; он сетовал, что страдает от головокружения и что задница теперь у него ни к черту: прежде чем выйти из дому, приходится заталкивать между ягодицами ком бумаги. Рассказывал он об этом с подозрительным спокойствием.
Засмеюсь – обгажусь, зарыдаю – обгажуюсь, а если подцеплю бабенку – боюсь осрамиться и ухожу, пока не засмеялся и не зарыдал. Чувствую, что опускаюсь все ниже и ниже. В мире так много ужасов, а моя работа абсолютно никчемна – от нее никаких перемен к лучшему. Что ты на этот счет скажешь, Киф?
Я ничего не сказал – предмета для разговора не было. Отделался пустыми, неискренними заверениями и утешениями, столь же выцветшими, как ковры в жилище Салли. Лежа в темноте, я видел в Салли прообраз нежелательного для меня будущего, призрак нереализованного творческого потенциала. Мир Салли в итоге оказался иллюзорным. Единственным реальным миром был мир Хайдля. В конце-то концов, Бог ведь не танцует. Все интересные люди отправляются в ад.