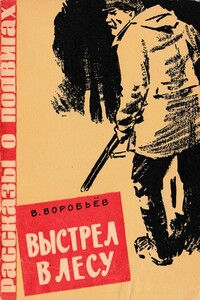Я не придумал ничего | страница 51
И вот, отчаявшись когда-нибудь наконец перепилить смычком мою мучительницу-даму надвое, решил я «остаться в штабс-капитанах», отлично зная, отчего мне чина подполковника не последует.
Новое устремление овладело мной. Я решил изучать английский. Подозреваю, что просто это было желание самоутвердиться, что ли… Была втайне лелеемая надежда вновь испытать то восхитительное чувство, которое пережил я еще в пятом классе, за короткий срок догнав и перегнав одноклассников в английском языке.
И, хотя давно было пора засесть за учебники и готовиться по всем предметам в институт, я отправился на поиски учительницы английского языка.
Еще в темном коридоре, длинном, небеленном, наверное, со дней революции и гражданской войны, заставленном гигантскими сундуками, никому не принадлежащими и никому не нужными, повстречались мне какие-то тени с кошелками, обшитыми мешковиной, перешептывающиеся на французском.
Они приветливо закивали мне.
Учительницей оказалась, как и следовало ждать от моей судьбины, довольно немолодая женщина, которая, к тому же, была больна и редко вставала с постели. Но повернуться и уйти было уже неудобно. На меня восторженно и радостно, словно на прекрасного принца-спасителя, смотрели огромные голубые глаза с длинными ресницами, каких просто не бывает у немолодых женщин. Наверное, для нее заработать уроком хотя бы самую малость было величайшим счастьем, невероятной удачей. Я об этом не подумал тогда, а ведь по каким-то приметам понял, что тут меня ждали, к приходу готовились.
В комнатке, чистой, светлой, давно и навсегда поселилась болезненная нищета, которую уже нельзя было скрыть, которой стесняются, как иные стесняются неряшливых старых родителей.
Возле кровати, на тумбочке, перед рябеньким зеркальцем — пустые флакончики. Все это на скатерке из газеты. Когда-то и в нашей бодрой неустроенности были такие занавески на окнах. Но здесь было совсем другое…
Моя будущая учительница полулежала на подушках, неправдоподобно маленькой желтоватой рукой поправляла воротничок глухого, донельзя чистого, донельзя старенького светлого платья. Всем своим женским существом, смущенной улыбкой, несмело-кокетливым взглядом она как бы робко-робко спрашивала: «Я вам нравлюсь?» Чем мог ответить ей я, полудикий юнец? Хорошо, что сумел не ответить ничем.
Беседовать с ней было легко. Она расспрашивала ненастойчиво, с искренним участием, давая незаметно понять, что ответа может не быть, что так даже лучше… О себе она с милой, но запоздалой непосредственностью юной девушки сообщила, что до революции была фрейлиной государыни императрицы, — сказала так, будто это была вчера. При этом она с непередаваемым изяществом, как бы мельком, перекрестилась. Революция, императрица… Уже тогда все это мне казалось давним-предавним, оставшимся в непостижимой дали веков. А между тем со дня революции и прошло-то всего пятнадцать лет. Как относительно время…