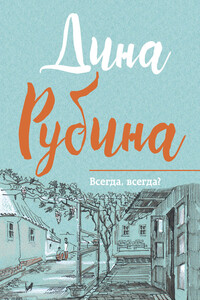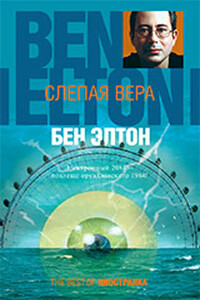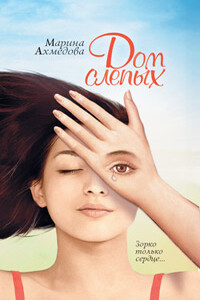Белые лошади | страница 46
Вообще, как с удивлением приметил Стах, женщин в таборе побаивались. Была в отношении к женщине извечная двойственность. С одной стороны, не могла она прикасаться к чистым вещам, вроде мужнина-отцова-братнева кнута или ножа; держалась подальше от угла, где выставляли икону; вся её одежда, что ниже пояса, а также обувь, считалась скверной; мужчина не мог касаться, не мог продать женской юбки, не мог даже чинить женский сапожок. Может, потому в одежде цыганок такое значение имел фартук – всегда широкий и длинный, – непременный атрибут облика. Только так женщину можно было обнять, положить ей что-то в карман и при этом не оскверниться. Опять же, и она может тащить в руках нечто необходимое, прижав к себе: фартук защитит от скверны. Но уж если цыганка хочет оскорбить, смертельно унизить за какую-то обиду – ей достаточно мимо пройти, обмахнув обидчика подолом юбки, или просто переступить через лежащий на земле его кнут. Страшнее этого ничего нет, разве что обритая голова – символ бесчестья. Кого выгоняют из табора, тех стригут наголо. Именно потому, объяснила ему Папуша, в советской армии делают исключение для новобранцев-цыган: их наголо не бреют.
Так что роскошные, хотя и засаленные длинные космы в таборе были поголовно у всех, не только у женщин.
И очень быстро он привык к цыганскому жилью – кибитке, – их никогда не снимали с телег. Внутри там было удобно, полно подушек и мягчайших перин. И ковров вдоволь: ведь ковёр для цыган – особая деталь уюта. Чем больше их в шатре или в кибитке, тем наряднее и богаче жизнь. Когда останавливались на постой, часть подушек и ковров перекочёвывала в шатры-палатки, сшитые из кусков разной подобранной или украденной ткани, брезента, холстины; многие – с заплатами, тоже разномастными: прекрасная пестрота на зелёном лугу или лесной поляне…
На постое ночевали, где сон свалил: кто в палатках, кто в своих кибитках. Жильё было пропитано едва уловимым приятным ароматом всего лошадиного – пота, навоза, конской щетины. И всюду царил терпкий запах цыганского табака.
Не покупного, а своего – настоящей махорки, накрошенной вручную. Выращивали в Сенгилее, там же и сушили его, затем рубили коротким широким резаком. Чудесный запах: вроде как и привычный запах табака, но более натуральный, более забористый и тонкий.
А ещё вечерами над разбросанными по лугу живописными кибитками и шатрами витали аппетитные ароматы цыганского варева – простого и сытного в своей незамысловатости. В вечерний котёл шло всё, что удавалось за день добыть: курица, гусь, картошка… – много чего ещё дармового и потому прекрасного, – что удалось стащить или выпросить. Похлёбка называлась «хабе»…