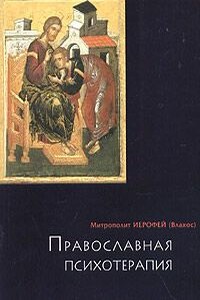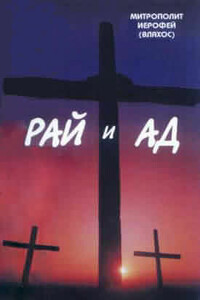«Знаю человека во Христе...»: жизнь и служение старца Софрония, исихаста и богослова | страница 30
Все это не поддавалось осмыслению, и, изнемогая от непрестающих внутренних конфликтов и неразрешимых противоречий, он делал попытки поставить себя в положение Творца и размышлял: "Как бы я создал мир?" С таким вопросом, как говорит старец Софроний, "заключенный в темноте и тишине", он "сосредоточивал свою мысль на этом задании"[82].
Память смертная присутствовала всегда, ее порождал и трагизм человеческого существования во время войны России с Германией, приближавшейся к концу, и трагизм гражданской войны в России[83].
Особенно поражает один эпизод, где говорится об опыте памяти смертной. Когда он сидел за своим столом и читал, подперев голову рукой, вдруг он ощутил, что держит в руке свой череп и мысленно смотрит на него извне. Он спросил: "Предо мною еще целая жизнь; быть может, сорок или даже более лет полных энергии… И что же?" Пришел ответ: "Если и тысячу лет… а потом что?" Тогда он обрел осознание вечности: "И тысяча лет в моем сознании кончалась прежде, чем была оформлена мысль"[84].
Эта память смертная, связанная с вечностью, выражалась по-разному. Он видел людей "умирающими": они вызывали у него жалость. Он не желал ни славы от "мертвых", ни власти над людьми. Он не ждал от них любви. Он презирал материальное богатство и не ценил интеллектуальное. Он не желал "счастливой жизни". Он пишет: "Мой дух нуждался в вечности, и вечность, как я понял позднее, стояла предо мною, действенно перерождая меня. Я был слепой, без разума. Она, вечность, стучалась в двери моей души, замкнувшейся от страха в самой себе"[85].
Однако та горечь смертной памяти, которую он переживал глубоко и напряженно, не проникала в его "глубокое сердце", в котором оставалась надежда, шедшая дальше всех пределов внешнего "пароксизма отчаяния": "Всемогущий не может быть иначе как благ"[86].
Одновременно с этим память смертная и борьба с Богом удерживали его "между временной формой бывания и вечностью", и эта вечность переживалась с отрицательной стороны. И это состояние вместе с надеждой породило в нем молитву[87].
Это состояние причиняло ему невыносимую боль, которую старец называет "святою". Незримый огонь пожигал его, но внутри него таилась "смутная надежда", побеждавшая страх вступить "на болезненный путь". Болезненность сердца несколько раз приводила "в восторг" его "дух", и, как он пишет, "я удивлялся, как Бог сотворил мою природу способной переносить страдания, через которые мне открылись неведомые прежде глубины молитвы". В какие-то моменты он, несмотря на боль, тихим голосом прославлял Бога. Тогда, как он пишет, "молитва выносила меня из тесного, как тюремная камера, мира, и дух мой жил в свободе беспредельности Бога моего"