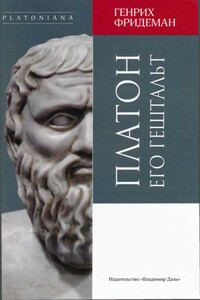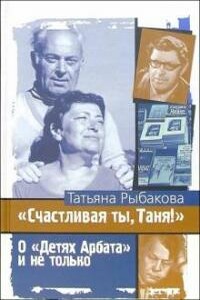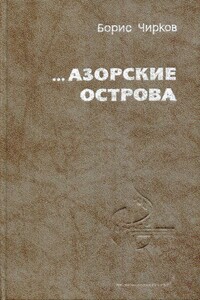На главном направлении | страница 27
Позднее установили, что путь, по которому пошла избыточная вода, был старым руслом Амударьи; именно здесь, у современного кишлака Кизылаяк, несколько тысяч лет назад произошел поворот могучей среднеазиатской реки на северо-запад, и она стала впадать не в Каспийское, а в Аральское море.
Кто из наблюдавших прорыв водой левого берега Бассага-Керкинского канала мог подумать, что на его глазах совершается природное чудо: воды Амударьи вновь устремились в сторону Каспийского моря по своему древнему руслу! Бывший тогда председателем ЦИК Туркменской ССР Надырбай Айтаков проплыл со мной на лодке по водосбросу, положившему начало знаменитому теперь Каракумскому каналу, в глубь песков более 15 километров. Но вода и дальше сама пробивала себе дорогу. Нередко ей приходилось встречать на своем пути большую гряду барханов, закрепленных зарослями саксаула; упершись в эту гряду, вода все выше поднималась, и тогда возникало огромное озеро, которое исчезало, как только вода прорывала барханы и устремлялась дальше на запад, чтобы вновь встретить препятствие и вновь образовать озеро. Лишь много позже вмешались человеческий ум и руки в эту стихийную работу воды, направляя ее по наиболее благоприятному пути, чтобы миллионы кубометров драгоценной влаги не уходили зря в ненасытную толщу каракумских песков.
Почти на тысячу километров проникла теперь амударьинская вода по Каракумскому каналу — крупнейшему в мире гидротехническому сооружению, орошающему сотни тысяч гектаров земли, на которой выросли новые совхозы и колхозы. Не только верблюд шествует по каракумским пескам. По ним текут воды Каракум-реки, они несут сотни судов, поднимающих десятки тонн груза, и белоснежные теплоходы на подводных крыльях стремительно мчат пассажиров через сотни километров некогда безводной и безлюдной местности.
Из природных явлений, характерных для зоны Каракумов, еще хорошо запомнился «афганец». Так назывались пыльные бури, надвигавшиеся обычно со стороны Афганистана.
Картина приближения «афганца» и его чудовищная сила, поднимающая на километры вверх огромные слои песка, не раз описывалась в научной и художественной литературе. Я хочу лишь сказать, что многие напрасно думают, будто опасность оказаться во власти «афганца» существует только в пустыне. Слов нет, в пустыне выдержать его удары труднее, но и на пограничной заставе, как равно и в любом населенном пункте, «афганец» доставляет массу неприятностей.
Сначала устанавливается какой-то таинственный штиль, людей охватывает смутная тревога. Затем южный небосвод заволакивается желтовато-бурой пеленой, как бы накрывается снизу огромным пологом, растущим вверх и вширь с каждой минутой. Яркий солнечный день быстро сменяется сумерками. Желтая пыль летит все плотнее, проникая во все щели. Как бы вы ни закрывали уши, нос, рот, глаза, какой бы одеждой ни пытались прикрыть свое тело, — все бесполезно, пыль проникает всюду. Сначала вам удается выплевывать ее, потом во рту пересыхает, и вы уже едва шевелите языком и зубами, и на зубах хрустит песок, словно битое стекло. Некоторые хозяйки заранее конопатили окна своих квартир, заклеивали их бумагой, и все же, как только налетал «афганец», на любом предмете в доме можно было выводить пальцем буквы или рисовать по слою проникшей пыли. У каждого пограничника и у многих местных жителей есть защитные очки, плотно прилегающие к лицу; они очень нужны в такое время, хотя и приходится, крепко зажмурясь, протирать их чуть ли не каждые 20–30 минут.