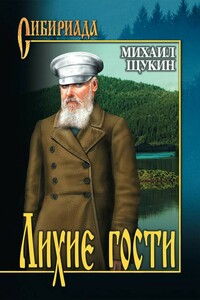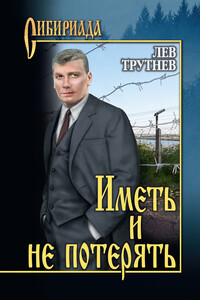Живи и радуйся | страница 69
Холод давил такой, что воздух будто застыл в неподвижности, и серенькие, под воробьиные перья, облака как бы прилипли к блеклому небу. И уже маловатое мне пальто, и меховая безрукавка под ним, сшитая дедом с началом ухватистых морозов, не держали тепло. Но в ограниченном пространстве дома, когда взгляд, скользя по знакомым до каждой извилины предметам, упирается в стены или потолок, тянет к новизне, на простор – не усидеть на печи или полатях, даже в такой промороженный день.
За дровником высовывал верхушку объемистый сугроб. Вскарабкавшись на плетень, я перепрыгнул на его гребень и невольно прижмурился от ударившего в глаза солнца. Деревня, заваленная снегом, курилась высокими дымами из низких труб, пестрела долгими разводами огородных прясел, вязью дворовых плетней, блеклыми стеклами окон. На улице – никого. Будто все вымерли. Только дымы, витиевато катившиеся к небу, и оживляли пространство. А дальше лес, желтизна озерных камышей, степной разворот. Но как не захватывает дух от распахнувшихся далей, долго на сугробе не выдержать. А тут еще какая-то тетка вдруг вывернулась из ближнего переулка и прямиком к нам, в ограду. Её торопливость меня насторожила. Заспешил и я в избу и сорвался с гребня сугроба в провал между плетнем и снежным наметом. Ушибиться не ушибся, но испугался. Хорошо, что заметил небольшой просвет на завороте плетня. Да и снег не был рыхлым, слежался, а то бы засыпало меня полностью в том узком пространстве, и ищи-свищи. Пришлось руками пробивать выход наружу через высветленную щель.
Замерзший, с россыпью снега во всех складках одежды, в рукавах и за воротником, ввалился я в избу.
На лавке, неподвижно, уронив руки по бокам, сидела мать. Лицо у неё было заплаканным. На столе я заметил знакомый уже треугольник фронтового письма, и меня встряхнуло от пронзительного испуга. Не в силах разжать сведенные нервным шоком, еще не согревшиеся от холода губы, спросить что-нибудь, я кинулся к матери, едва передвинув одеревеневшие ноги.
– Ранили папку, сынок, – прошептала она, поняв моё состояние. – Пишет – не тяжело, в руку. Но разве он сознается. – Теплая капля упала мне на шею. Как раз туда, где стал таять набившийся за ворот снег. Матушка вдруг задрожала всем телом, заплакав, и я уткнулся лицом в её колени, не в состоянии произнести каких-либо утешительных слов. Да и не знал я их.
Весть о том, что к нам – в Луговое привезут эвакуированных из Ленинграда, облетела деревню. Растревожила и без того неуемную тревожность, постоянно державшую людей в напряжении. Еще бы, это были семьи из того далекого города, за который воевали многие наши отцы и братья. Люди, познавшие войну доподлинно, воочию, хватившие горя и мучений больше нашего. Да никто и не ожидал тех забот – свалилось, как снег на голову, а как принимать, как выкручиваться, если свои семьи выживали только-только? И хотя тяжко было за ленинградцев, а все одно: таи не таи – своя рубашка ближе к телу. Тем более в такое непредсказуемое время. И не многие проявили сердечный порыв на приют эвакуированных. Большей частью власти склоняли сельчан на нужное согласие, исходя из их житейских возможностей. Теснили тех, у кого изба обширнее и семья поменьше. А к таким, как мы, и не подступались – нас самих было пятеро.