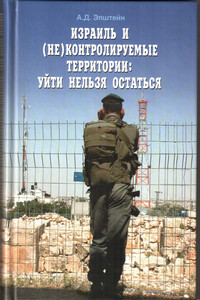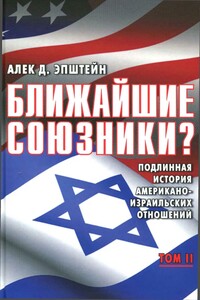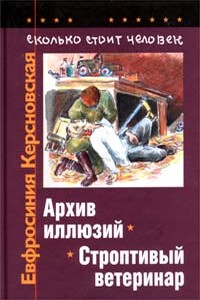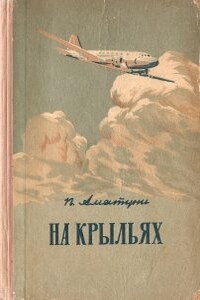Забытые герои Монпарнаса | страница 33
Это уточнение принципиально важно: спустя полтора десятилетия почти все художники, входившие в группу «Мир искусства», покинули Россию и обосновались во Франции: и Александр Бенуа, и Зинаида Серебрякова, и Мстислав Добужинский, и другие, но их искусство оставалось и во Франции таким же, каким оно было в России — очень далеким от поисков и находок фовистов, кубистов, экспрессионистов, не говоря уже о сюрреалистах и дадаистах. Эти люди на всю жизнь остались преданны неоклассической эстетике, и переезд во Францию никак не изменил ни содержания, ни стилистики их полотен, от работ Сезанна, Матисса и Пикассо бесконечно далеких. Сказанное верно и в отношении постоянно жившего в Париже с 1923 года Константина Коровина, эстетика которого сформировалась под очевидным влиянием французских импрессионистов, но который на всем протяжении своей творческой жизни сохранял верность именно классическому импрессионизму 1860–1870-х годов. Художники-иммигранты, поселившиеся в «Улье», имели принципиально другую стартовую позицию и совершенно иные устремления: они прибыли во Францию не для того, чтобы сохранить в неприкосновенности свой стиль (за исключением, возможно, Марка Шагала, своего стиля ни у кого из них к тому времени и не было), а для того, чтобы именно там, в Париже, обрести свое творческое «я», стать художниками, находясь в авангарде новейших течений того времени. Совершенно невозможно представить себе никого из обитателей «Улья» в качестве участников дягилевской выставки: в 1906 году Сергей Павлович Дягилев демонстрировал величие императорской России и ее искусства, беженцы из «черты оседлости» создавали совершенно иное искусство, оказавшееся куда более созвучным духу наступившего XX столетия.
Ил. 18. Обложка книги «Дягилев. Начало» (ред. — сост. А. В. Лакс. СПб.: Государственный Русский музей, 2009). На обложке — фрагмент картины Л. С. Бакста «Портрет С. П. Дягилева с няней», 1906 г.
В 1911–1914 годах во Францию прибыла еще одна волна художников из России: среди них, как и в предшествующие годы, было несколько живописцев еврейского происхождения, в частности Эль Лисицкий, Амшей Нюренберг и братья Певзнеры, но также Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Георгий Якулов, Сергей Шаршун, Владимир Татлин, Любовь Попова, Надежда Удальцова и Александра Экстер. Не забудем и о том, что с самого начала XX века в Париже жил и работал уроженец Москвы художник Николай Тархов, в апреле 1905 года женившийся на француженке Ивонн Дейтейль (Yvonne Deltreil, 1880–1945). Большинство из них — и в этом их разительное отличие от преимущественно еврейских эмигрантов предшествовавшей им волны — впоследствии вернулись в Россию, хотя Н. А. Тархов, М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова и С. И. Шаршун на всю жизнь остались во Франции, где прожили более полувека. Однако даже для тех художников, чье пребывание в тогдашней «Мекке современного искусства» было сравнительно коротким, этот опыт имел решающее значение в их творческой судьбе. В Салоне Независимых 1914 года были представлены работы 78 живописцев — уроженцев России, среди которых были и те, кто в Париже не жил: Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Владимир и Давид Бурлюки. Планировалось и проведение в Москве и Санкт-Петербурге совместной выставки российских и французских художников, однако начало Первой мировой войны перечеркнуло все эти планы.