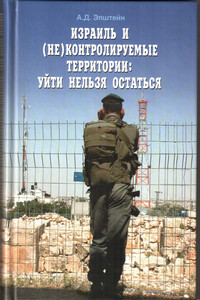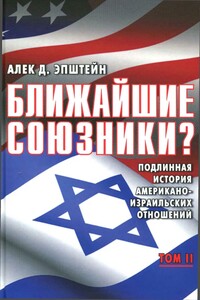Забытые герои Монпарнаса | страница 28
Ил. 16. Обложка книги «L’ Ancien Testament. La Genèse, l’Exode, le Cantique des Cantiques. Illustré par Marc Chagall» (Editions France Loisirs, autorisé par Editions du Chêne, 2014). На обложке — картина М. З. Шагала «Сон Яакова»
Сам М. З. Шагал создал на протяжении десятилетий огромный корпус произведений, которые чисто формально могут считаться «иллюстрациями» к Библии; количество этих работ столь велико, что целый ряд изданных к настоящему времени книг об этом великом живописце только этой грани его творчества и посвящены.
Но «сбрасывание оков традиции» не приводило к изменению системы, если так можно выразиться, национально-интеллектуальных координат: говоря об искусстве, которое создавал он и его единомышленники, М. З. Шагал в том же выступлении сравнивал этот процесс ни с чем иным, как с созданием Библии: «Мы, новые евреи, тысячу лет назад создавшие Библию, творение Пророков, основу всех мировых религий, мы хотим создать также и великое искусство, такое, которое прозвучало бы на весь мир»>52.
Натали Хасан-Брюне не без оснований отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»>53. В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий XX века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Юлиус Мордехай Паскин (настоящая фамилия — Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал! Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосье «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они, фактически, анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб, погибший то ли из-за того, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.