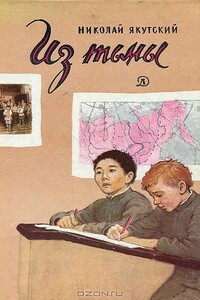Во всей своей полынной горечи | страница 31
От родника все время шел подъем, и к этому моменту мы всегда немного уже уставали. Затем кончался лес, и открывалась степь, и сразу вокруг все светлело, теплело. По полям гулял знойный ветер и струилось текучее марево, пели жаворонки и было столько простора, синевы, неба, что душа радовалась. Мы шли по проселку, а вдоль него по обе стороны тянулись огороды с недавно пробившимися всходами картошки, пустынные еще, не отягощенные зеленью, но уже закурчавившиеся. На каждом была воткнута табличка с обозначением организации и владельца. Таблички — на дощечке или куске фанеры, прибитом к палке, — еще не выгоревшие от солнца, не слинявшие от дождей, и написаны они были то старательно, то кое-как, то краской, то чернилами. Мы читали их, смеялись над смешными фамилиями. А потом появлялись среди них и знакомые, и наконец еще издали мы узнавали и нашу, узнавали сразу, потому что видели, как дома мастерил ее отец — строгал, прибивал гвоздями и писал химическим карандашом, глянцевито-круглым, отливавшим фиолетовым блеском зрачка на тупом торце, тщательно вырисовывал буквы, макая средний палец в кружку с водой и увлажняя поверхность фанерки под строчку.
Мы с братом исторгали радостный вопль и бежали смотреть табличку, удивляясь тому, что посреди поля так далеко от дома стоит она, предоставленная солнцу и ветрам, охраняя наш огород, и что на ней не чья-нибудь, а наша фамилия. Нам казалось это почти чудом. Тем временем отец и мать, оставив сапки и корзину, обходили участок, рассматривая, что и как взошло. Мама будто молодела, светлела лицом, освобождая какой-нибудь сморщенный, силившийся пробиться росток от придавившего его, потрескавшегося на ветру комка: «Ах вы, мои маленькие! — приговаривала она, разгребая землю и оправляя ростки. — Сейчас мы вам поможем…» Она относилась к всходам как к маленьким детям. Нас поражало таинство превращения брошенного в почву семени в растение: всего несколько недель назад здесь было совсем пустынное поле, усеянное лишь прошлогодними почерневшими кочерыжками кукурузы и подсолнуха, и нам казалось, что вырасти на нем ничто не сможет. И вот теперь… Иногда мы с братом тайком подрывали какое-нибудь растение, уже выбросившее листочки, чтоб удостовериться, в самом ли деле произросло оно от брошенного зерна, и убеждались, что это действительно так: в глубине земли на хилых белесых нитях корешков висели раскрывшиеся половинки фасоли или сморщенный мешочек кукурузного зерна. Не диво ли? И как это случилось, какой механизм заложен в безжизненном, казалось бы, зернышке?