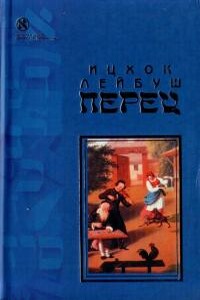Избранное | страница 14
— Шпринде, хочешь развод?
— Чтоб тебя… — Она даже не закончила проклятья и залилась слезами… — Шмарье, как ты думаешь, бог не накажет меня за мою брань, за мою злость?
Но едва он выздоровел снова та же Шпринце: язык без костей, крепка, как черт, и царапается, как кошка!
Жаль Шпринце! Она не дождалась радости от детей.
«Им, должно быть, неплохо живется, все — ремесленники… С ремеслом не пропадешь! Здоровье у них крепкое, они в меня пошли. А что они не пишут, так что ж? Сами они не умеют, а кого-то просить… И никакой радости в таком письме. Просто… время…
Дети забывают… но им должно быть, хорошо живется…
Только Шпринце, бедняжка, лежит в сырой земле! Жаль Шпринце!
Как только прекратились откупа, она стала на себя не похожа! Правда, прежде чем я стал посыльным, прежде чем научился говорить помещику „ясновельможный пан“ вместо „ваше высокоблагородие“, прежде чем мне стали доверять документы и деньги — в доме не было куска хлеба…
Но ведь я — мужчина, бывший кантонист! Ну, так денек не поем! Ей же, бедняжке, это стоило жизни! Слабая женщина, чуть что, она сейчас же теряет силы. Она даже не могла браниться. Куда девался весь ее задор! Она только плакала…
Жизнь не мила мне стала… Да еще она почему-то стала меня бояться! Она даже боялась есть, боялась, что мне не хватит. Когда я вижу, что она боится, я куражусь, кричу, бранюсь! Например: почему не жрешь?! Иногда я впадал в ярость и просто готов был побить ее, но поди ударь плачущую женщину, когда она сидит, покорно сложив руки, и не шевелится. Я бросаюсь к ней с кулаками, еще поплюю на них, а она отвечает мне: „Ты сначала поешь, а я потом буду!“ И мне приходилось есть первому, а ей давать остатки!..
Иногда она старалась спровадить меня из дому: я без тебя поем, а ты иди; иди, может быть, что-нибудь подвернется. И при этом улыбается и иногда даже погладит меня! А когда я возвращался, я находил хлеб почти нетронутым! Она меня уверяла, что не может есть сухого хлеба, что ей каша нужна!»
Шмарье опускает голову, как будто его гнетет большая тяжесть, а грустные мысли всё бегут…
«А сколько слез она пролила, когда я хотел заложить свой праздничный кафтан, тот, что сейчас на мне! Она рвала и метала! Наконец побежала и заложила свои праздничные подсвечники и уже до самой смерти благословляла свечи, поставленные в картофелины!.. Перед смертью она призналась мне, что никогда не хотела развода, говорила она это только со злости. „Язык мой, язык мой, — кричала она. — Господи, прости мне мой язык!“ Она так и умерла в страхе, что ее на том свете повесят за язык! „У бога, — говорила она, — не будет ко мне милосердия, я слишком грешна! Но когда ты придешь туда, не скоро — не дай бог! — через сто двадцать лет, когда ты придешь, сними меня с виселицы! Скажи всевышнему, что ты меня простил!“ Она уже почти потеряла сознание, но все звала детей. Ей казалось, что они дома, около нее, что она говорит с ними, и у них она тоже просила прощения.