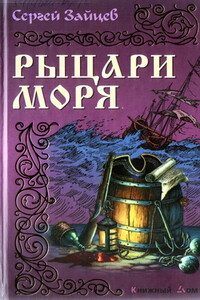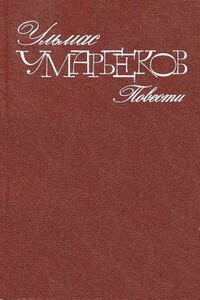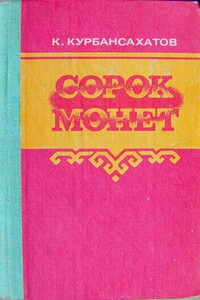Тур — воин вереска | страница 127
Кукушечка
Нежные чувства, набиравшие силу в сердце у Радима, преобразили его; он теперь был весел и добр, чуток ко всем, щедр; он и прежде был великодушен, но теперь великодушию его, казалось, не было границ; он мог бы простить близким любую обиду, мог безропотно переносить любые превратности жизни, мог не замечать чужих проступков и ошибок — и не замечал, главным образом, в среде крестьян, которым в эту лихую годину, видел, было более всех тяжело. А ещё он стал шумным и деятельным. И хотя война откатилась на юг и в округе стало значительно тише, Радим вознамерился из Красивых Лозняков сделать крепость, превратить имение в фортецию (от русских офицеров Радим впервые услышал это слово; может быть, именно тогда у него и зародилась мысль сделать усадьбу неприступной), и делал, и превращал: укреплял с мужиками ворота, возводил частокол на месте старого и весьма ветхого забора, рыл глубокий ров; и с топориком, и с лопатой сам управлялся.
То его только и слышно было — указывал мужикам, куда стаскивать камни, показывал, куда наваливать землю, где вбивать колья, а то вдруг надолго пропадал, и не было его ни днями, ни ночами; близкие начинали тревожиться, куда подевался Радим, а он опять являлся, с улыбкой, с ласковыми речами, светлое чело. Ян с Алоизой допытывались: где он был да где пропадал. А Радим всё отнекивался да всё отмалчивался с ясной улыбкой. Только одна Люба догадывалась: у рабовичского священника в доме Радим бывал, возле светёлки Марийки брат её любезный пропадал; верно, ответила Марийка на сокровенные его чувства, и оттого он был так явно счастлив.
И действительно: Радим не в силах был таить от сестрицы свою сердечную тайну. Он открылся ей, что ответила ему ненаглядная Марийка любовью. Он до этого долго был в сомнениях и в душевных метаниях, и в растерянности, и даже в подавленности; бывал то в грусти, то в тоске, только и думал о ней, о славной Марийке, сохло сердце, страдала душа. А оказалось, что и у неё сердце сохло по нему и душа страдала. И в один прекрасный день, в великолепный час, когда небо увиделось обоим обсыпанным жемчугами, а солнце осеннее засияло алмазами, признались они друг другу в сильнейших любовных чувствах. И плакала от счастья Марийка у счастливого же Радима на груди, и говорила, что боялась, боялась пуще смерти, что он не любит и никогда не полюбит её. Он нравился ей с детства; а как девичество пришло, как стало набирать оно силу, меняя её, творя из неё женщину, как стало забирать её у самой себя или, напротив, возвращать к себе, к такой, какой должна она быть на веки вечные, как Природа над ней поднялась, и властно взяла её девичью суть, будто сосуд взяла в крепкую руку, и наполнила суть эту страстностью, так с тех пор только и думала Марийка о нём, всё о нём, о Радиме, только его и видела в мечтаниях своих, в каждом юноше, в каждом мужчине его видела, только о нём и грезила, когда просыпалась ночами, и грезила о нём днями — всё валилось из рук, про всё забывала, отвечала невпопад, без причины плакала, вдруг от всех убегала, не сиделось ей и не лежалось, поднималась идти, но не помнила — куда, подходила к дверям, но не знала — зачем, и тревожилась мама: не болеет ли дочь... Болела, болела Марийка, и болезнь её прекрасная называлась любовь.