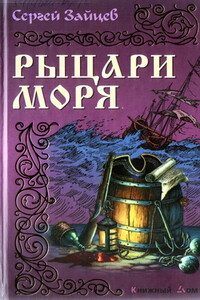Тур — воин вереска | страница 117
— Густав, Густав! Милый Густав, я не поняла ни слова из того, что ты произнёс... но я люблю тебя.
И от слов этих она вдруг пришла в себя, опомнилась, и слова эти как обожгли её, и она прикрыла себе ротик ладошкой, словно бы хотела слова свои остановить, поймать, вернуть... да уж поздно было. Она сама не знала, почему сказала это. Но сказалось так, вырвалось — наверное, потому, что назрело, потому, что это была правда; и вырвалось это не из уст её, а из самой глубины сердца, которое, как известно, разуму не подчиняется и никому и ничему не служит, кроме святого чувства любви. Впрочем, Люба быстро успокоилась и даже улыбнулась: всё равно он, Густав, этот чужой человек... любимый её человек... слов её не понимал.
А он уж не опирался на неё, он обнимал её нежно и легко. У Любаши на плечи сполз платочек, и Густав зарылся лицом в её чудные волосы и вдыхал, жадно, всей грудью вдыхал, необыкновенный её девичий запах, вечный, как вечна женщина, как вечен сам род человеческий, запах волос библейской Евы, который кружил голову ещё Адаму. И шептал ей в ушко:
— Всё так сложно в жизни и всё так просто в жизни: люби — и будешь счастлив...
— Ты люби меня, не покинь, — сами собой срывались слова с уст Любаши.
Она ещё что-то говорила, уж сама не помнила, да и не важно, что говорила, ни ей не важно, ни ему непонятно, говорила, говорила в полубеспамятстве, когда горячие уста его обжигали ей шею, когда за ушком запечатлевали поцелуй, всё говорила Любаша не то про любовь, не то про хлеб принесённый, не то про заживающие раны, говорила взволнованно, и дышала, и улыбалась, и, кажется, даже плакала, опять говорила, пока его уста трепетно и нежно не накрыли её уста... И как будто широко, широко по округе растеклась, расплескалась щедро её любовь, которую удержать в себе уж невозможно было, разлилась любовь её, как восхитительная песня, какая всякого трогает за сердце и находит отзвуки в каждом сердце, и потому далеко, далеко бывает слышна.
И на следующее утро приехала Любаша к Густаву. Уже не обманывала себя, не оправдывалась тем, что только заботится о беспомощном раненом, и не корила себя девичьей слабостью, девичьей уступчивостью (никого из парней к себе близко не подпускала, а тут позволила и обнимать, и целовать), не пугала худой молвой, ибо почувствовала, что стремление её к любимому просто необоримо, не по силам девушке противиться природе её. Помнила Любаша сильные руки его, жаркое его дыхание, помнила волнующий вкус его губ, вкус шиповника почему-то — чуточку железный и чуточку сладкий... Ночку совсем не спала. А спозаранок повезло: когда собиралась, никого из домашних не потревожила, не встретила; сама сноровисто оседлала какую-то лошадку.