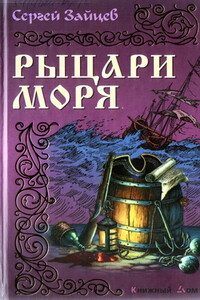Тур — воин вереска | страница 115
Но отчего-то пела душа, и хворостинка в руке, будто сама собой, подгоняла Коника, и глаза Любашины торопились, за каждым крупным деревом, попадавшемся на пути, выглядывали ту полянку в лесу, поросшую в человеческий рост травой верломой, и то покинутое людьми и забытое Богом ветхое строение, в котором уж, кажется, затеплился огонёк (чего тут, право слово, от себя скрывать и себя обманывать!)... огонёк вечной девичьей надежды, светлой печали о счастье... а когда за деревом лесным ещё не показывалась хижина, вздыхала Любаша.
И внезапно трепетало непорочное девичье сердце от мысли сладкой: «Какой он, однако, красивый!..»
Люба сразу заметила, что и дверь хижины уже крепка, починена, и мхом заделаны щели в венцах... Вошла. Дверца даже не скрипнула и не стукнула о косяк — с такой точностью теперь подогнана была... а внутри так хорошо, так свежо пахло хвоей — пышные венки из еловых и сосновых веток, из багряной и жёлтой листвы красовались на стенах, радовали глаз, и был мастерски вымазан глиной очаг, и выглядел он теперь так опрятно, как выглядят очаги в городских жилищах у рачительных, у домовитых хозяев, и над жаркими углями висел начищенный до блеска медный котелок (тот самый, что оставила Старая Леля, да узнать старухин котелок, который, оказывается, из меди!., сейчас было нельзя, так он сверкал бочками), а в нём тихонько побулькивала некая похлёбка...
...а Густава в хижине не было...
Оттого Любаша даже растерялась. Никак не ожидала она, что раненый поднимется столь быстро; видать, хорошее зелье оставила ему Леля, не обманула. И решила девушка, что это даже лучше — что пана офицера сейчас в хижине нет; оставит она ему еду и поспешит домой; так, значит, судьбе, так Богу угодно — новой встречи их не допустить... Зачем? Зачем?.. Поставив торбочку на стол, собралась она было из хижины бежать, повернулась, глядь, а в дверном проёме сам Густав и стоит, великан великаном, плечи — от косяка до косяка, под притолокой голову пригнул, а в руках охапку хвороста и бересты держит. И смотрит на неё, на Любашу, так ласково, и не бледен уже, как был бледен вчера, позавчера, и про палку свою помощницу уже как будто позабыл. Силы телесные заметно в нём прибывали.
От неожиданности Любаша попятилась и прижалась спиной к стене, замерла там, обмерла и смотрела на Густава в волнении.
Он сказал ласковым голосом:
— Опять вижу тебя, нимфа моя.
И пройдя в хижину, при этом даже не прихрамывая, свалил хворост и бересту в угол у очага. Он был такой большой, этот Густав, — много больше, чем казалось, когда Люба с братиком тащила его на волокуше и когда лежал он здесь, умирающий в лихорадке, на лаве... Густаву даже низок был потолок — в иных местах, где хижина просела от времени, от времён, ему приходилось пригибаться.