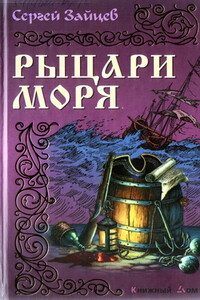Тур — воин вереска | страница 112
Любаша улыбнулась:
— Нет, палкой от них не отобьёшься. Мне Винцусь говорил, что у всех местных мужиков теперь полно оружия — и шведского, и русского. Вам хорошо бы иметь хоть пару пистолетов или саблю.
— Танцевать я пока не могу, — продолжил с грустью Оберг, и вдруг лицо его просветлело. — Но зато я могу это, — он подвинул к себе сумку, достал из неё листок бумаги и протянул его Любаше. — Не напрасно же мой отец художник.
Девушка сделала осторожный шаг, ибо всё ещё не вполне доверяла этому чужому человеку, врагу, как говорил Винцусь, взяла листок и увидела на нём... ангела, девушку-ангела.
— Это ангел? — приятно поразилась Любаша, потому что нарисованная девушка-ангел ей сразу понравилась, как бы легла на сердце.
— Ангел? — расслышал Оберг. — Нет, это не ангел. Это нимфа. Это ты, Люба, — и для пущей ясности он показал на неё пальцем. — Это, Люба, ты...
— Я? — приглядевшись, девушка действительно увидела некоторое сходство.
И хотя образ её, нарисованный угольком, несколько отличался от того образа, что она каждый день видела в своём зеркале, в рисунке легко можно было её узнать; пусть и не сразу. Густав изобразил её в виде нимфы. Она была стройна и тонка — быть может, даже тоньше, чем на самом деле. Но эта нимфа, или, по представлениям славян-язычников, вила[57], прекрасная вила, и должна была быть тонка, поскольку жила она в дереве, вот в ясене, например, или в липе, в ольхе, и должна была легко помещаться в ствол, а руки — длинные и тонкие, гибкие и нежные — в ветви, а волосы её — в листву.
— Я нарисовал этот портрет и смотрел на него, когда тебя не было рядом. Эта нимфа — одна из дриад[58], она владеет древнейшей мудростью, она знает тайну жизни и смерти, она врачует и исцеляет. И она — это ты. Она — само очарование и источник силы. Я смотрел на неё, и силы вливались в меня, а раны мои быстро затягивались... Ты сама видишь, как я быстро поднялся.
Любаша вспомнила рассказы крестьянок о красивых юношах, за которых выходят замуж вилы, и снимая свои волшебные платья, теряя девственность, теряют они и крылья, и с ними небеса (вот как умеют любить!), и божественную силу, и становятся обычными девушками, и при этом она подумала о Густаве, о том, что он вот такой и есть — красивый юноша, молодой мужчина, именно за таких, наверное, выходят замуж вилы, высоких и сильных, с приятным лицом и бархатным голосом, с уважительностью и обходительностью, с нежностью во взоре... Люба смутилась от этой мысли и скрыла смущение своё, опустив голову, — будто она разглядывала рисунок. Почему именно о Густаве она подумала в эту минуту? Люба не могла бы ответить на этот вопрос; ибо честный ответ со всей очевидностью показал бы, что молодой шведский офицер становился Любаше дорог... Ответим на него мы: наверное, потому, что этот человек в последние дни занимал все её мысли. Не было такого времени дня, чтобы она не думала о нём, хотя и не спешила признаться себе в этом; чем бы ни была занята она — рукоделием ли, хлопотами ли по хозяйству, — мысли её, будто заговорённые, сами собой возвращались к потаённой хижине в лесу; и если она просыпалась ночью, она сразу вспоминала о нём, о Густаве, и думала о нём до тех пор, пока дрёма не переходила незаметно в сон, когда мысли воплощались в образы, какие начинали жить своей жизнью, становились неподвластны ей, воле её и её желаниям, мысли обращались в призрачных птиц, улетающих в сон, в безвременье, и туда её, Любашу, уносящих... И, кажется, там, там, в снах — розовых или бесцветных — жил, жил этот самый Густав, и говорил на понятном языке, и звал куда-то, и нежно трогал за руку, и заглядывал в очи ей, стоя близко-близко, заслоняя полмира широкими плечами, горячо и трепетно дыша ей в лицо, и на сердце оттого было тепло, будто свернулась на нём колечком пушистая мягонькая белочка, и было под ложечкой чуточку тревожно, и сладко-сладко... Выходило, значит, так, что и ночью она думала о нём. Люба вспомнила, что и улыбаться ей в последнее время стало легко — она лёгкая стала на улыбку, хотя трудные пришли времена и много было вокруг беды.