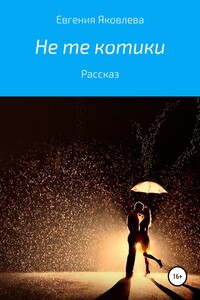Маэстро и другие | страница 61
И т. д. и т. п.
Стало быть, критика ничуть не сомневалась в авторстве Маэстро.
«Рука Маэстро чувствуется в том, как необычайно использован человеческий материал в форме гротеска, хотя и не выходящего за рамки общепринятых типологических критериев, но поднятого здесь до вершин экспрессивной функциональности» («Коррьере дела Сера»). «„Добрый человек из Сезуана“ — свидетельство того, что наш самый знаменитый режиссер в результате обратился к авангардному, по сути, сценическому языку, в котором язык жестов (как говорят) превалирует над банальностью конкретного содержания (что хотят сказать), заменяя тем самым, если вовсе не отвергая, явно устаревший парадоксальный материалистический идеализм, столь типичный для прославленного миланского Театра» («Риволюцьоне культурале»). И, наконец, категоричный «табель успеваемости» «Гадзетта дель Пополо»: 10 за спектакль, 10 за актерскую игру, 10 за режиссуру.
Всех превзошел в своей оценке Джованни Рабони, наиболее авторитетный итальянский критик, который превознес «жест этого старого синьора сцены, который, уже будучи на пути к неизбежному закату, вдруг обрел юношеский порыв, поставив на кон всего себя, иронически переосмыслив собственное прошлое, и, как в случае с Прустом, который, едва закончив ‘Поиски’, принялся за переписывание романа уже в комическом и пародийном ключе, так и в этом случае, переосмысление старой знаменитой постановки ‘Доброго человека’ привело в результате к наиболее точному и убедительному его прочтению».