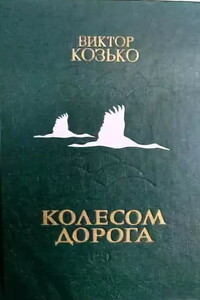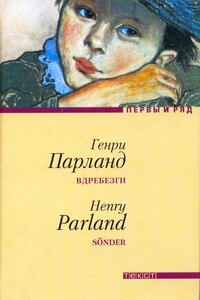Никуда | страница 9
Мы так и не отозвались друг другу, как совсем и всегда чужие. Безгласно обошлись только одним знаком ее пальца: она мне приказывала, я — подчинялся. Мать покивала мне немо, и немотой, может, и уберегла, как предвидела что-то необратимое, невозвратное для меня впереди. Спасла немотою. Благословила или приговорила. Немая немого.
Я молча повернулся к теплу, веющему мне в лицо. К свету, который был уже почти дневным. Только не всюду, а ограниченно, на ширину и размах рук, скорее даже ладоней, как дальнобойный луч карманного фонарика, ходового в ту пору, кажется, немецкого «Даймона». Оставленный за мной мрак словно вытолкал меня из непроглядности. Я, как по веревочке или солнечному лучу, потянулся за ширящимся светом, теплом. Потянулся хвостиком, как в беженстве за маминой юбкой. Только оглянулся на застывшую фигуру женщины, которая заступила мне дорогу. Но там уже никого не было. Пусто, пустым-пусто, как и у меня на душе. Только толчок в плечи. Совсем, похоже, не материнский, не женский. Так поддавать может только судьба. Чтобы не упасть, я быстренько-быстренько заперебирал ногами. Вперед, хотя на самом деле — назад.
Нет, не одни раки ходят назад. И полешуки на такое способны. Не хотят, а вынуждены, невольно. И я был подчинен неизбежному, хотя и понимал, что это неправильно, издевательство над моей природой и натурой. Но так предначертано было мне судьбой — задним ходом вперед и по одной узенькой дощечке, неведомо кем проложенной для меня. Живыми, мертвыми, вечностью, откуда я родом. Преждевременно состарившийся, обессилевший, немо бреду в ночи к кладбищу, мимо которого совсем недавно прошел.
А была уже ночь, глубокая и глухая, беззвучная, без биения даже моего сердца. Могильная, подземельная тишина и темнота, когда я снова прибился к росстани трех дорог, опустошенный, почти голый, могильно онемелый. На мгновение приостановился около присмиревшей в ночи авиационной бомбы. Все же нашла, отомстила она мне. Лучше бы в свое время взорвалась. Рванула, смела деревню и меня, немая свидетельница моего позорного возвращения.
И кладбище меня уже не пугало, как раньше. Покойники в темноте меня не видят, и я их не вижу. Лишь звезды с неба следили за мной мертвыми глазами, но я избегал на них смотреть. Стыдился. Деревня же потусторонне молчала. А на кладбище, взяв в кольцо, похоже, поднявшихся из могил покойников, сотлевших и свежих крестов, молча утягивающих их в небытие корнями деревьев, обозначалось нечто живое. Хороводился, погуливал ветер. А в глубине кладбища уныло и тускло мерцал огонек керосиновой лампы, а может, свечки. Или это горел кто-то из грешников. У чертей в аду не хватило дров, и он сбежал, чтобы остудиться в ночи на этом свете.