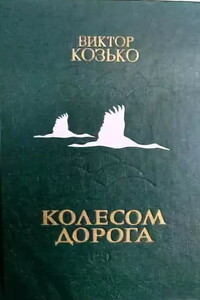Никуда | страница 40
Неужели и я такая же тень из глубин прошлого века, если меня семьдесят лет кто-то здесь ожидал. Неужели и я попал в ловушку безумно игривого времени? Неужели оно принялось играть и со мной, как до этого играла смерть? Не в паре ли они, и их балы да гули и меня в лапти обули. Не тот ли щенок, так жадно желавший больше полувека тому печеной картошки в смертную для матери и сестры ночь. И совсем не мама погибла в ней, а я.
Я волчком закрутился на месте, осмотрел себя со всех сторон. Начал с ног. Нет, кажется, твердо и прочно стою на незнакомом, чужом подворье. И обут не в лапти — те же, что и утром, ботинки. Посмотрел в небо. Облако, зависшее в голубом прогале над яблонькой у забора, цедит сединой, стоит, где и стояло. И кошка, как раньше, посиживает на бетонном пороге, меланхолично покачивает укороченным обсеченным хозяевами хвостом, чтобы держалась дома. Успокаивает. И у Валентины как был один золотой зуб во рту, так и остается единственным. Желтенько острым лучиком пронзает мне глаза, словно испытывает, пробует меня на вкус.
Оставалось лишь ущипнуть себя за какое-нибудь место. Я же чувствовал еще в начале дороги, что день пошел не так. Но чтобы настолько не так. Не хочешь, а вынужден верить и оглядываться. Боже, за что, почему и зачем это мне? Морок, проклятие. Приговор и наказание за мои семьдесят с гаком грешно прожитые годы — так ведь было суждено смертью сестры и мамы. Промашку дали, одумались, иначе откуда этот сегодняшний пролом времени у почти уже мертвой деревни на глазах чернобыльской Мадонны, первородной Евы. И кто я сам?
В последнее время, уже обратно развернутое, как ни удивительно, в детство, мне все чаще приходят на ум старцы, нищие, которые, побираясь, шли по проселкам от деревни к деревне, от дома к дому. Седые старики, деды, иногда и слепые, с поводырями, сиротами-хлопчиками. Лапти, белого рядна портки и сорочки. На лицах покой, умиротворение и согласие — судьбоносная пропись их дорог и жизни. Через плечо перекрестом белые сумы с подаянием — горбушками, окрайцами, кусочками черного хлеба. На закате солнца сумы обычно набиты выпирающими ржаными краюхами милостыни.
Вот и я представлял себя сумой на плечах белоголовых старцев. И моя сума, судьба, жизнь была наполнена протянутым мне с порога сердобольными деревенскими хатами милостивым подаянием. А порой обманами, кривдами, когда я вместо куска хлеба получал камень, горькими слезами. Такую нищенскую суму-торбу носило на плечах едва ли не все мое поколение. А я и по сию пору несу свое нищенство в кужельно ущербной торбе — суме памяти. Укоряю только себя. Не нарекаю особо ни на время, ни на свою долю. Потому что иного не дано. Хотя иногда и тоскливо, горько и обидно, когда кажется, что и не жил, а если и жил, то грешно и неправедно. Бился как рыба об лед. Душа стенала и просилась в иные времена и в иную жизнь.