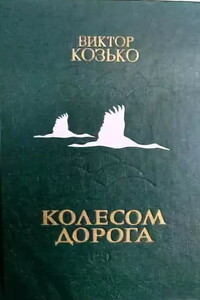Никуда | страница 29
Хотя повод для поездки был печальным, дорога умиротворяла, приглушала боль, как это всегда происходит, когда смотришь на огонь, глядишь на воду, сливаешься, плывешь взглядом по ее течению. А еще увлечешься работой сам или наблюдаешь за слаженной работой других.
Я же полюбил, предался дороге еще мальцом, когда только решился на первый шаг. Ходить было хорошо и падать кулем хорошо. Утешен был дорогой в горький свой час, когда выправился в беспризорность. Уставился на стальные рельсы, блестяще, торчком набегающие на меня из-под колес товарных вагонов. Дал зарок: больше года на одном месте не жить. Полгода — и в дорогу. Легки, конечно, наши зароки. Но всегда есть где-то в навозной луже рябая свинья, которая только и поджидает, чтобы броситься наперерез нам и заставить повернуть куда угодно, только не туда, не туда.
С рассветом, перекрасом асфальта из антрацитно-черного на чадяще-синий, незаметно возвращалось ко мне детство. Все же каким бы долгим ни был наш век, что бы ни видели, кем бы ни стали, мы были и остаемся детьми. Обжигающая, бередящая душу тайна белого света, которым мы спеленуты от первого нашего крика до надгробного креста, в нас и с нами. И в земле точит нас могильным червем. Ведет, сосет и притягивает, как смоленую сову притягивают гарь и дымный запах печной трубы. Та же гарь и адски поблескивающая изморозь сажи — не отмыть, не отбиться — волоком волочит и нас по свету, который мы впервые увидели наяву чистыми и ясными глазами детства.
Дорога струнно настраивала меня, как старый еврей скрипку. Смычки островерхих сосен подрагивали в небе, прописью застывших нотных знаков кособоко и извилисто мелькали издревле проросшие здесь, слившиеся с этим краем, землей бревенчатые избы деревень, в самих названиях которых пробивалась, звучала музыка. Где-нигде по обочинам посиживали и слушатели или создатели ее. Старые задумчивые вороны, седые по осени любопытные ежики, которым крайне надо было на другую сторону шоссе. А на прохладный, вспотевший в ночи асфальт выползали прогонистые желтоухие ужи, выскакивали грузные, словно беременные, жабы. Нежданно серо и рыже стыли в жухлой траве гадюки, выставив только головы, подстерегая жабье недавно выведенное, последнее в этом году потомство.
Это было их время, ползуче сытное, ниспосланное им в иные годы, кажется, для приумножения и продолжения, но чаще гибельное. Близилось Воздвиженье. Гадовью повелевалось идти под землю. Но не всему, не каждому. Земля не принимала тех, которые согрешили летом. Провинились перед ней и человеком, излив яд. Они самоубийственно, по-современному, цивилизованно-облегченно заканчивали свой век чаще на шоссе, на асфальте, под колесами машин. Получали себе могилу, как и человек-самоубийца, которого хоронят не на кладбище, среди людей, а возле них, за забором. Именно в такую пору разгорались и битвы между носящими яд гадюками и ужами. Побеждали, как правило, последние. Все как заведено в этом подлунном мире.