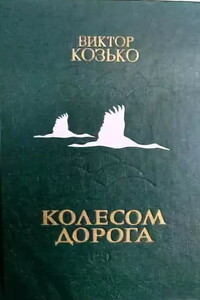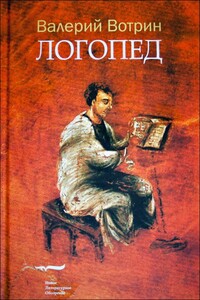Никуда | страница 23
Я понял — грех уповать только на наследие предков, добытое ими кровью, потом и горбом: страну, дом, язык и достоинство. Нам завещано искать и добывать свое здесь, на земле и при жизни, а не христорадничать. Не побираться, не старцевать-нищенствовать, не бегать по миру с протянутой рукой. Так ведь и руки вместе с мозгами могут отсохнуть.
К этому я пришел своим квелым умом, когда моя жизнь стала нестерпимой. Приперло, как говорится, так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Той порой и котика не всегда мог досыта накормить. Большую часть дня он уныло проводил в темном углу квартиры. Молча что-то пытался донести до меня, сумрачно и не без укора помаргивая зелеными светлячками почти детских глаз. Я боялся и избегал их, каждый раз припоминая слова про тех, кого мы приручили. Пытался оправдаться: да, согласен, виноват, и мы с тобой не только одной крови, но и одной доли.
Не чувство ли этой обездоленности и понимания голодной тоски котика подвигло меня в отчаянии бессонных ночей к бегству, отрицанию и уходу из этого мира в мир иной. Не котик ли показал и подсказал туда дорогу. Ведь, похоже, он сам был иноземцем, пришельцем с неведомых планет. Прибился к земле, а сейчас, не исключено, сожалел об этом. Я невольно жаждал его мира, но космическая дорога была заказана мне. Она была суждена, напророчена мне в детстве, когда я был нездешним, цельным и вольным, способным летать, мысленно изъясняться и перемещаться по небу, морю, исчезать и объявляться вновь. Но сегодня меня лишили этого, обрезали крылья. Не позволили дольше слушать траву, звезды и даже другого человека.
И все же что-то еще и сохранилось, осталось. Наследственное, от родителей — что-то делать, быть, хотя бы присутствовать. Двигаться, идти, брести по стежкам, проселкам, гостинцам, даже зная, что они уже никуда не ведут и не могут вести. Именно эта память детства заставляла меня перебирать ногами по праху моего Аз-ВозДам — Азаричско-Домановичского гостинца, на который я ступил по своей воле, не захотев отставать от людей, которых гнали в концентрационный лагерь смерти. Но об этом чуть позже.
А тогда в моих бессонных ночах мне оставалось одно: уединиться, слиться с мраком, ползти подколодным гадом, ужом, гадюкой. Шиться, спешить в отсырелость нор, в твердь и глубь земли, если нет спасения здесь, на поверхности. Нечего ждать милосердия и милости ни от живых, ни от мертвых, как и от утерянного распятого прошлого и тем более от людоедского настоящего. Это не моя Земля, не мое время. Здесь я отвержен. Здесь у меня лишь ожидание. Ожидание неизбежного. За мной идет охота, может быть, посланная даже небом, как коршун охотится за цыпленком. Потому не надо сидеть сиднем там, где меня случайно посеяли, посадили — искать свой мир, свое время. Свою землю обетованную, как это делали разные Америго Веспуччи, Васко да Гама и наш земляк Язэп Дроздович. Но в отличие от них, подкованный, образованный временем и молча приговоренный голодным своим котиком, я бросился на поиски иной жизни, не во вселенной, а там, где пребывал, надеясь найти и открыть неведомые туннели, лазы, порталы — ходы в иные, может, параллельные нашему, миры. Достигнуть сути, не самого ли ядра Земли. Добиться там упрятанной от меня судьбы, доли и правды.