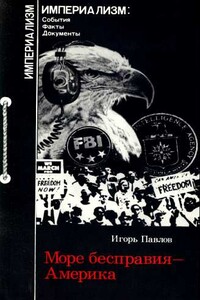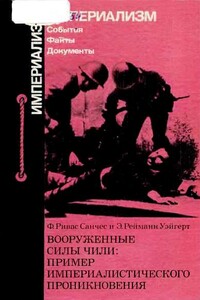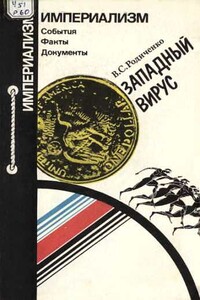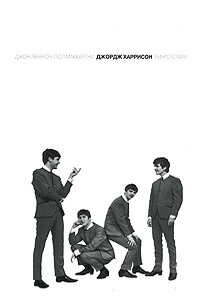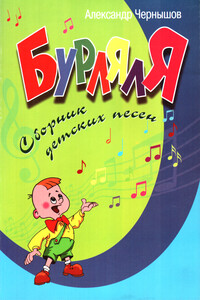Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный "авангард" и поп-музыка в системе буржуазной идеологии | страница 67
Сами концепты этих сочинений чрезвычайно просты — настолько, что не составляет труда их инсценировать, а остаток «многозначности» музыкального смысла «осел» в броских названиях пьес. Если эти заглавия убрать, то останется сравнительно примитивная пантомимическая символизация. Но слова «гасят» эмоциональную потенцию инсценировки, а инсценировка своей инфантильной однозначностью «гасит» интеллектуальную потенцию, выраженную в юмористической двусмысленности названий опусов. «Стихи отводят от портрета, портрет отводит от стихов», — заключил Пушкин одну из эпиграмм (на собрание невзрачных стихотворений, изданное с портретом известной красавицы).
«Пустое» человеческое сознание воссоздается также и в репетитивизме. Монотонно повторяющаяся звуковая структура, как отмечают критики, обладает несвойственным музыке качеством визуальной наглядности. Восприятие музыки оказывается крайне пассивным: структура репетитивной музыки словно втягивает в себя любую осмысленность слушания и нейтрализует этот порыв к осмыслению. Вот что пишет один из композиторов-репетитивистов, Горацио Ваджионе: «Пространство-время представляется пронизанным единственной звукоформулой. В результате своей борьбы против этого пространства субъект коммуникации попадает к нему под контроль»>75.
Попав под этот «контроль», слушательское сознание депсихологизируется. Программу неэмоционального и неинтеллектуального сознания реализует, например, Хуан Гидальго в опусе «Rrose Selavy». Опус представляет собой постоянное возвращение легко запоминающихся звукоформул в до мажоре. Возвращение этих формул, однако, не является «напоминанием», «реминисценцией» в смысле мотивной и тематической работы, существующей в целесообразно построенной музыке, в которой слуху «есть, за чем следить». Поскольку при каждом появлении звукоформула повторяется большое число раз, то она и не исчезает из памяти. Кроме того, между формулами нет логико-смысловой связи, поэтому появление какой-либо новой среди них не оказывается «событием», меняющим контекст, а значит, и возвращение этой формулы не будет ни о чем напоминать. Подзаголовок, добавленный Ваджионе к названию «И так далее без конца», оказывается вербализованным смыслом всех этих манипуляций: бесконечно существует такое «теперь», в котором ничего не происходит и ничего не осмысляется.
Сходным образом дает образ опустошенного сознания мелодическая композиция Штокхаузена 70-х годов. Краткая мелодия «Япония» из цикла «Для будущего времени» (1970) расчленена на пять частей. Замысел Штокхаузена состоит в том, чтобы исполнители в процессе медитативной импровизации «изолировали элементы мелодии друг от друга» посредством одновременного исполнения мелодии в разных темпах, разных регистрах, в различной динамике и на разных инструментах. В конце концов «мелодия» должна принять облик колышущейся массы звуков. Под конец импровизации эта звуковая масса с нарастающей скоростью и интенсивностью звучания перемещается в верхние регистры и исчезает