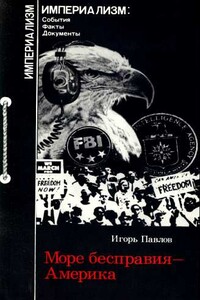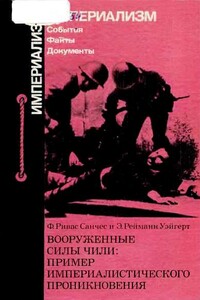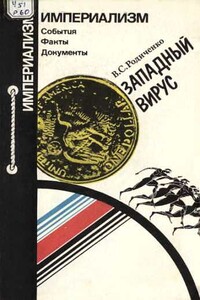Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный "авангард" и поп-музыка в системе буржуазной идеологии | страница 48
В этом изменении звукового материала музыки можно видеть, согласно 3. Боррису, «вслушивание в мир науки и техники»>15. Эта интерпретация достаточно поверхностна. Поскольку «мир науки и техники» предстает в виде самоценной и подавляющей сферы, то происходит «вслушивание» не просто в него, а в принципиально дегуманизированный, исключающий самоценность человека мир. Можно привести примеры из авангардистской практики, как бы «плакатно» свидетельствующие о выпадении человеческой индивидуальности из новой «картины мира».
Композитор Р. Либерман, словно следуя призывам Руссоло, звавшего «молодых композиторов упорядочивать, настраивать шумы»>16, осуществил на выставке Экспо-62 в Лозанне проект «Les Echanges». В этом опусе, как замечают исследователи, «технологическая тема совпала с выполнением»>17. «Произведение» состояло в том, что 156 машин, представленных в одном из разделов выставки, работали и производили шумы. Деятельность этого «оркестра» контролировалась с электронного пульта, откуда подавались «команды», определявшие виды операций, скорость работы, движения и, соответственно, шумовую продукцию той или иной машины. Композитор, как свидетельствует автокомментарий, ставил перед собой задачу «музыкально интерпретировать машины», «одухотворить» их>18. Однако на деле слушатель, оказавшийся в окружении самостоятельно работающих машин, в шуме которых можно лишь угадывать некоторую координированность, оказывался словно в центре планомерно осуществляемой акустической агрессии.
Несколько лет спустя после опыта Либермана на индустриальной выставке в Ганновере демонстрировались «Звукомобили» («Klangmobile»), сделанные Г. Беккером из железа>19. Их самостоятельное движение визуально подчеркивало агрессию «нечеловеческого» звуко-шума, создавая образ отчужденного от человека, превратившегося в механизм и ставшего автономным разума.
Концепция «подавления» человеческой органики выражается, в частности, и в хэппенинге. Показательно сочинение М. Кагеля для пяти исполнителей с симптоматичным названием «Звук» (1968). Замысел этого хэппенинга состоит в показе постепенного распада и «смерти» традиционного музыкального звука. Пьеса начинается в духе обычного концертного музицирования. Дается точка отсчета: традиционный «дышащий» инструментализм с его экспрессивной наполненностью звучания, с исполнителем, который делает инструмент как бы частью самого себя, своего эмоционального и физического состояния. Однако вскоре нормальное развитие музыки нарушается: теперь исполнители уже не столько играют на инструментах, сколько жестикулируют, используя инструменты, отчего те издают случайные шумы и как бы превращаются в независимые от человека предметы. Музицирование перерождается в абсурдистское действие, в котором традиционные инструменты, ставшие лишь источниками случайных шумов, постепенно отодвигаются на второй план. Наконец в дело подключаются и специальные источники шума вроде «камеры грохота» (модернизированной трещотки — объема, наполненного дробью) и «многих ветеранов из первовремен брюитизма»