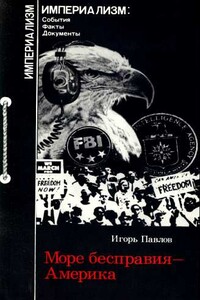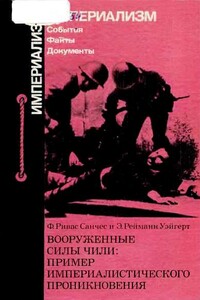Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный "авангард" и поп-музыка в системе буржуазной идеологии | страница 23
Параллель 1-я: антипсихологизм и фетиш эксперимента. Теоретики сциентизма обвиняли различные философские системы прежде всего в субъективизме. «Объективный» метод социальных наук, согласно, например, К. Попперу, состоит в «испытании попыток решения проблем». Попытки практически разрешить ту или иную проблему должны быть каждый раз подвергнуты критике, надо постоянно пытаться опровергнуть их и заменить новыми попытками разрешения проблемы, то есть применять метод проб и ошибок. Причем первый шаг познания, первая попытка «теоретического разрешения проблемы» оказывается случайной, затем делается поправка с учетом новых возможностей, тоже случайно открытых, затем следует новая попытка как исправление первой и т. д. «Так случайность, — пишут советские ученые, — возводится Поппером в онтологический абсолют»>52, что в плане социально-политическом означает возведение в закон субъективных «проб», производимых лицами, управляющими обществом, возведение в абсолют волюнтаризма господствующих классов. Одновременно человек понимается в этой концепции как своего рода калькулятор, «машиноподобный агент технического мира»>53.
Представителями авангардизма 50-х годов были усвоены и антипсихологизм, и фетиш естественнонаучных методов, столь категорично выраженные Поппером в их взаимосвязи. Представление о композиторе и слушателе как объектах продуцирования и потребления калькулируемой информации окрашивается в тона аэмоционализма. Сам же процесс музыкального сочинения выступает в высказываниях композиторов как аналогия попперовскому «испытанию попыток решения проблем», скрыто базирующемуся на изначальной и возводимой в абсолют случайности.
Пьер Булез, пришедший к композиции после изучения математики и технических наук, вскоре после появления своего первого сериального сочинения («Полифония X») издал короткую статью, симптоматично названную «Шёнберг мертв» (1952) и оказавшую большое влияние на композиторов молодого поколения. Что же означала манифестированная Булезом «смерть Шёнберга»? Отнюдь не «смерть» додекафонии, обязанной своим возникновением, в частности, Шёнбергу. Наоборот, Булез призывает продолжать «дело додекафонии»: «Мы использовали лишь ограниченную область звуковых феноменов, будущее ясно: расширение и умножение»>54. Шёнберг для Булеза олицетворял эмоциональность и психологизм экспрессионистического видения мира, «бытие в постоянном самосознании кризиса», «интенсивное переживание своей эпохи». По Булезу, на место этого эмоционально-психологического отношения приходят «утрата субъективности», «формальный порядок», распространяемый в «глубину музыки, на уровень микроструктур»