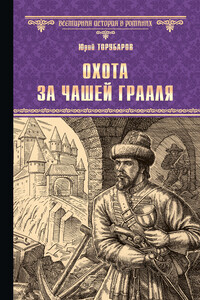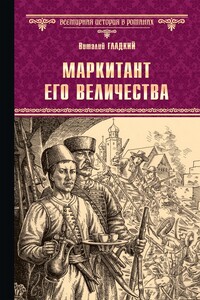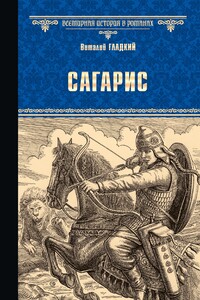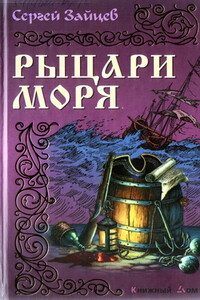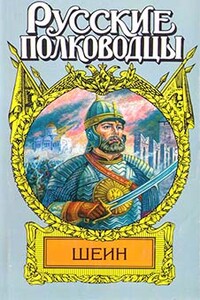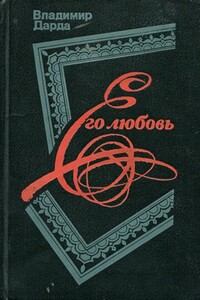Пепел и снег | страница 24
Так, раз за разом успешно подавляя приступы болезни, Александр Модестович заставил всех свыкнуться с мыслью, что, пока он здесь, вряд ли вновь появится необходимость посылать в Полоцк за лекарем Либихом. Среди больных же, нуждающихся время от времени в кровоизвлечениях, прошёл слух, что теперь им не придётся неделями, а то и месяцами дожидаться быстрого на руку, но и сребролюбивого, заезжего цирюльника Никитку. Молодой барин так же был на руку лёгок и скор, к деньгам, однако, равнодушен, знаний же, само собой, имел не в пример цирюльнику, был опрятен, приятен, не груб в обращении.
И верно, в лекарской помощи Александр Модестович никому не отказывал: ни крепостным, ни вольным, ни своим, ни чужим, ни беглым, ни нищим; платы не брал, и по всей губернии пошла о нём добрая слава. Елизавета Алексеевна, должно быть, именно с этих пор перестала сожалеть, что сын её пренебрёг военной карьерой ради не столь уважаемого цивильного поприща. Она собственноручно отписала о том в Петербург генералу Бекасову, а также немногочисленным своим подругам в губернию и в обе столицы, причём в каждом письме Елизавета Алексеевна находила повод заметить, что имела прекрасную возможность испытать на себе действие новейшего и моднейшего, заимствованного у европейских медицинских светил метода гомеопатии, и писала, что действие этот метод оказывает необыкновенное, а лекарь Либих, который врачевал её, просто душка. Однако всё зло, писала она, коренится в далеко зашедшей болезни, которую, кажется, уже невозможно вылечить до конца ни одним методом, и если бы не забота дорогого Сашеньки, и если бы не его похвальные знания, и если бы не его настойчивость и усердие и так далее, и так далее, то вряд ли бы у неё достало сил и здоровья даже продиктовать эту согrespondance, потому что её, бедную Лизоньку, в конце концов наверняка разбил бы паралич. Так мудрая барыня Елизавета Алексеевна и сына похвалила, и лекаря не обидела, и себя со своим недугом выставила в выгодном свете, исходящем от европейских медицинских светил. И не сказала ни слова неправды.
Когда здоровье матушки заметно окрепло, Александр Модестович вместе с часами досуга обрёл наконец и возможность уделить поболее внимания себе. И это было необходимо, ибо со времени приезда — недели уж две тому — он ощущал в душе некое непривычное настроение, как бы натянутую струну, которую нужно было тронуть, чтобы она зазвучала, или пружинку, подобную пружинкам в часовых механизмах, — её сжали и поместили внутрь него, быть может, в сердце; пружинка давила, и он чувствовал это давление, и ему как будто не хватало воздуха, хотя грудь дышала спокойно, и ему как будто не доставало свободы, хотя он в любое время мог заложить возок и ехать куда ему заблагорассудится, и как будто хотелось говорить, но говорить он не мог, потому что слова не слушались его и утекали, как песок сквозь пальцы. Сначала Александр Модестович не особенно прислушивался к своему состоянию, полагая, что это болезнь матери выводит его из равновесия, но, когда выздоровление Елизаветы Алексеевны более или менее обозначилось, он заметил, что зазвучали совсем другие струны у него в душе, а та, главная, по-прежнему молчала, и пружина давила в сердце — часовой же механизм не работал; привычный домашний мир стал казаться тесным, из него хотелось бежать. Пришло ощущение, что в сердце у него пусто, и сердце вожделело наполнения. Однажды ночью Александру Модестовичу привиделись (а он готов был ручаться, что не спал) в зимних ранних сумерках синяя дубрава и дорога в глубоком снегу, и почудился вороний грай, и он услышал, будто кто-то легонько подул ему на ресницы, — и так это было нежно, и так чарующе благоухало это дуновение, что ему захотелось вернуться к той дубраве, к той дороге и испытать дуновение вновь. Его посетила мысль, от которой, как от прикосновения, зазвучала, запела та единственная струна, и дрогнула пружинка, и заработал механизм, а слова, будто сами собой, сложились в строки, спеша запечатлеть эту мысль: