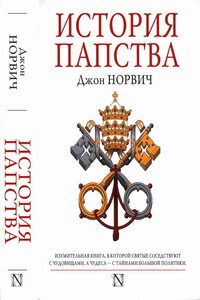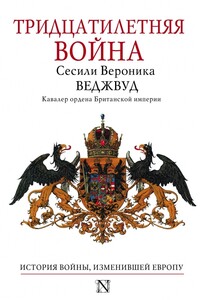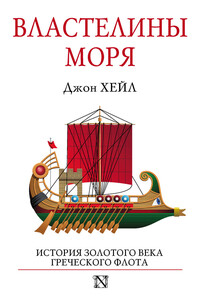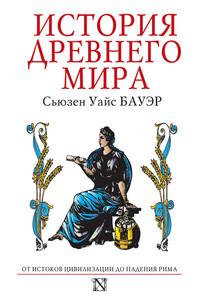Ренессанс. У истоков современности | страница 114
Эти трудности, конечно, не могли смутить Поджо и его просвещенных друзей. Они в совершенстве владели латынью, выработали навыки разгадывания древних текстов, с интересом и даже наслаждением разбирали куда более головоломные богословские трактаты Отцов Церкви. Кроме того, уже первые страницы поэмы должны были убедить Поджо в том, что он нашел нечто совершенно уникальное.
Можно предположить: Поджо не сразу понял, что эта поэма заключает в себе угрозу перевернуть привычные представления человека об окружающем его мире. Наверняка гуманист все равно решил бы ее реанимировать и издать: возрождение наследия мыслителей древности было для него главным жизненным поприщем, единственным нравственным принципом, не зараженным разочарованиями и цинизмом. Но тогда он должен был сказать себе примерно те же самые слова, которые произнес Фрейд, прибывая с Юнгом на пароходе в Нью-Йорк, чтобы послушать хвалебные речи почитателей: «Разве они не знают, что мы везем им чуму?»
Та разновидность «чумы», которой давал волю Лукреций – и в этом действительно обвиняли его поэму, когда она снова стала доступна читателям, – называлась очень просто: атеизм. Однако сам Лукреций в действительности не был атеистом. Он верил в существование богов. Но он верил и в то, что боги не имеют никакого отношения к жизни людей и к тому, как и для чего они живут. Божествам уготована вечная безмятежность, их абсолютно не волнуют страдания и переживания человека, и они равнодушны к любой его деятельности.
Если вам так хочется, пожалуйста, называйте море Нептуном, хлеб – Церерой, к вину применяйте имя Вакха, а вся окружность Земли пусть будет для вас Матерью богов[257]. Вы можете посещать и божественные святилища, если сумеете воспринимать божьи лики «в совершенном спокойствии духа» (6:78). Но вам не удастся ни прогневить, ни умилостивить божества. Процессии, жертвоприношения, неистовые пляски под барабаны, кимвалы и дудки, нарядные жрецы-евнухи, разбрасывание лепестков роз, резные образы божественных младенцев – вся эта обрядовая атрибутика, несмотря на притягательность, абсолютно бессмысленна: боги далеки и обособлены от нашего мира.
Можно, конечно, посчитать Лукреция, несмотря на его религиозность, и атеистом, коварным и потаенным, ведь практически во все времена и практически для всех верующих обращение к Богу означало надежду на защиту, прощение грехов, избавление от кары Божьей и получение других милостей и поблажек. Какая польза от Бога, который не в состоянии ни наказывать, ни вознаграждать? Однако именно такие ожидания и переживания Лукреций и относил к числу самых токсичных суеверий, замешенных на невежестве и пустых страхах. Человек, воображая, будто его судьба и ритуальная ревностность волнуют богов, оскорбляет их: словно счастье и благополучие божественных созданий зависит от наших нечленораздельных высказываний и хорошего поведения. Но боги не обидчивы, тем более что им нет никакого дела до наших переживаний. Что бы мы ни делали (или не делали), для них не представляет никакого интереса. Главная проблема состоит в том, что ложные верования и представления наносят человеку вред.